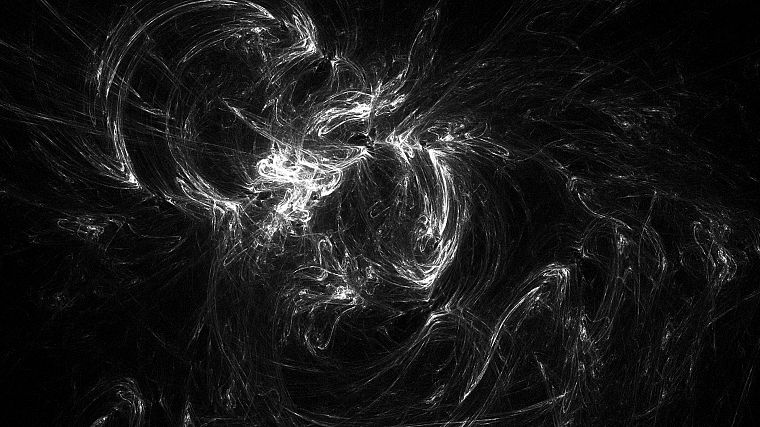Следует предположить, что желания сменить пол, появляются у людей чаще, чем об этом нам известно. Возможно, что не во всех случаях они доходят до сознания и прорываются туда только при регрессиях. Либо просто забываются, как это происходит со множеством других сновидений. А сколько таких желаний скрытно и открыто удовлетворяется?
Вероятно, не случайно, что во сне и Шреберу и Александру Васильевичу[1], каждому в свое время, приснился один и тот же сон, который сопровождался мыслью, “как приятно было бы стать женщиной”.
Поскольку эти мысли вырвались наружу во время сна, следует предположить, что именно этот процесс каким-то образом связан с процессом появления таких мыслей. При этом мы не должны забывать, что именно во время «похода» в фетальный период, смогли прорваться эти мысли.
Открывая нам природу сна, З.Фрейд писал: “Основной функцией сновидения является охрана и сохранение особого состояния, которое мы называем сном. В этом состоянии открыто проявляется наше отношение к реальному миру, в который мы пришли, поскольку он несет с собой так много информации, что это делает для нас невозможным выносить его непрерывно. Поэтому мы время от времени возвращаемся в состояние, в котором находились до появления на свет, т. е. во внутриутробное существование”[2].
Итак, каждую ночь, не в силах выносить реальность, мы мысленно, но, возможно, и физически (учитывая эмбриональную позу во время сна), возвращаемся в фетальный период.
Мы можем предположить, что именно процессы сна, являются тем транспортом, который доставляет нас в фетальный период и обратно.
Но зачем? И какой в этом физиологический смысл для нашего психического аппарата? Мы бы просто могли на ночь терять сознание, а потом в него возвращаться.
В этой работе мы не будем искать ответ на этот вопрос, пусть его ищут другие специалисты. Нам интересно Другое. Почему эти же процессы участвуют в помутнении нашего сознания при различных психических заболеваниях.
То, что в механизмах возникновения бреда участвуют те же самые процессы, которые мы встречаем в работе сновидений, для нас не является каким-то открытием. Но, почему в одном случае возникает сон, а, в другом, бред?
Как показывает случай Шребера, невозможность долго выносить реальность, ничем не лучше невозможности выносить информацию, которую ему услужливо, но при этом настойчиво, предлагал во время сна к обозрению его психический аппарат. При этом бред, как форма сна, неохотно его отпускал от себя, а сон этого не делал.
Мало того, довольно часто, проснувшиеся люди, испытывают чувства, далекие от удовлетворенности сном. Об этом мы можем судить по неоднократным кошмарным сновидениям и, о которых нам ведают пациенты. Некоторые люди, вообще, чувствуют себя утром хуже, чем днем.
Что их там не устраивает? Чем так богаты фетальные воспоминания, что на все утро, если не день, портят людям настроение?
В своей одноименной работе Валерий Лейбин опубликовал сочинения студентов психологического факультета на тему “Я и Эдипов комплекс”[3]. Из этой работы наше внимание привлекли повторяющиеся и кошмарные сновидения. Нужно отдать должное этой работе, откровенности респондентов и просим прощения у лиц, их написавших, если, вдруг, при чтении этой работы в их памяти оживут неприятные для них воспоминания далекого прошлого, но при этом надеемся, что к настоящему моменту все их травмы оказались изжиты.
Ссылка на их работы необходима для того, чтобы показать, что воспоминания, прорывающиеся в сознание довольно часто, даже у обычных людей несут в себе травмы далекого прошлого.
Забегая вперед, сразу отметим, что тема насилия, возможно, никак не связана с реальностью – это обычная замена реальных, но фетальных воспоминаний ложными. Но обратим внимание читателя на то, что в фетальном состоянии тема насилия, как следует из сновидений, является такой же актуальной, как и в реальности.
Одна студентка писала: “Мне запомнился один кошмарный сон, когда меня, маленькую девочку, насилует мой же собственный отец. Все это происходило на лугу среди коров. Позже и отец превратился в огромного тяжелого быка. Это было настолько омерзительно для меня, что я до сих пор не могу думать об этом спокойно. Кроме этого, меня мучил один и тот же постоянный, детский кошмар. Я не помню, сколько же раз он мне снился, но это было очень часто, едва ли не каждую ночь. Маленькая девочка, т.е. я, танцует на полянке. Светит солнышко. Вдруг на эту крошку начинает наваливаться огромный камень или, скорее, обломок скалы. Девчушка превращается в маленький хрупкий цветок с разноцветными лепестками. Камень успевает вдавить его в землю… Я вздрагиваю и просыпаюсь в слезах. Мне страшно, я зову мамочку…”.
Ища ответ на вопрос, почему Шребер лишился сна, зададим другой. Спокойно ли она после этого сновидения засыпала, охотно ли она ложилась в постель?
Уход внутрь себя при засыпании, опираясь на К. Абрахама[4],[5], можно представить следующим образом. Сначала изменяется окружающий мир, он теперь “производит необычное впечатление, нечто хорошо знакомое, то, что попадает в поле зрения каждый день, кажется изменившимся, как будто незнакомым, новым, непривычным, или все окружение производит такое впечатление, как будто оно является продуктом фантазии, иллюзией, видением”.
Это начало сновидного состояния Абрахам назвал стадией “фантастической экзальтации”, содержание которой носит строго индивидуальный характер. Затем, как он считал, наступает “стадия отрешения”, в которой пациентам кажется нереальным, чужим, изменившимся их обычное окружение. Они сами чувствуют себя “как во сне”. Ощущения “пустоты сознания, застоя мыслей, пустоты в голове” он отнес к третьей стадии. Не выделяя отдельно четвертой стадии, он пишет: “Возникает депрессивное состояние, появляются “аффект страха, головокружения, сердцебиения и т.д., фантазии депрессивного характера”[6].
Если говорить о случае Шребера, имея в виду его бредовое состояние, то мы увидим, что оно имеет много общего со сновидным состоянием, на котором останавливал наше внимание Абрахам.
Как и при процессе засыпания Шребер, с тем лишь отличием, что это состояние у него зафиксировалось, после приступа ипохондрии (первое заболевание) пережил некий прилив сил, что проявилось повышенной активностью, переоценкой своих сил и возможностей и вылилось в повышение по службе и баллотирование в рейхстаг, что мы понимаем, как проявление фантастической экзальтации. Возникшее вслед за этим психическое перенапряжение, которое через обрыв фиксаций минуя регрессию в детство, окунуло его в фетальный период, что проявилось возникновением бредовых идей. Мир, который он видел, он не узнавал, тот, что знал, посчитал погибшим, а людей умершими. Затем возникли навязчивые мысли, которые заполняли собой внутреннюю пустоту (выдолбленный изнутри череп). Вслед за ними возникло депрессивное состояние, страх, головокружения, сердцебиения и т.д.
Внутренняя пустота, в данном случае, должна нами пониматься в переносном, обратном смысле, как то, что, что-то должно, где-то находиться. И в этом мы узнаем детское место.
Обращаясь к Абрахаму, проведём вместе с ним сравнение между сном и психозом. Он говорил: “Самый глубокий слой сновидения (как в психозе) всегда образован реминисценциями инфантильных желаний, он служит для выражения сексуального комплекса величия”. За ним следуют переживания депрессивного состояния, “аффектов страха, головокружений, сердцебиений и т.д.”, – иные фантазии депрессивного характера”.
На примере случая Шребера мы убедились, что это не совсем так. Никаких иных, кроме величия (“но не сексуального комплекса величия”!), инфантильных, а тем более сексуальных желаний у Шребера, находящегося в регрессивном до фетального уровня состоянии, мы не нашли. Впервые они проявили себя при его “повторном возвращении” (в образе молодой девушки), когда он стал опасаться за свою половую неприкосновенность.
Скорее всего, под «сексуальным комплексом величия» мы должны увидеть чужой, но не Шребера комплекс. Возможно, отца.
Объясняем это тем, что плоду нет необходимости испытывать какие-либо сексуальные удовольствия, – ему хватает фетальных удовольствий, в т.ч. и сексуальных, которыми с ним делится его мать, о чем мы поведали в своей работе “Травмы и удовольствия фетального периода”[7]. Но зато он подвержен комплексу собственного величия, под которым мы подразумеваем «Мега-Я» и величия той части мира, которая под его влияние никак не попадала.
Вспомним, что пока Шребер лежал в постели, находясь между сном и бодрствованием, в своем воображении находясь в сиянии лучей, он увидел нижнего Бога (Аримана) и услышал его язык.
Между бредом и сновидением существуют определенные различия, главным из которых мы бы посчитали разрушение логических и ассоциативных цепочек. И вообще, создается впечатление, что природу бреда представляют процессы обратные процессу сгущения (но не в смысле разбавления).
Сгущенные бредовые элементы сами собой распадаются, где на части, где на комплексы частей и теряют между собой связь. Во время бреда они не могут восстановить свое единство ни с причиной, ни со следствием. Это становится так же невозможным, как превратить кусок фарша в кусок мяса, из которого он был сделан.
Вспомним, что неоднократно, описывая личные впечатления, Шребер обращал наше внимание на состояние перехода от сна к бодрствованию и от бодрствования ко сну (просоночное состояние), во время которого, как мы знаем, у него появилось представление о возвращении нервной болезни; он обнаруживал повреждения частей тела; общался с лучами, богами; боролся с маленькими человечками и так далее и тому подобное.
Как мы догадываемся, в этот момент либидо, “выносило” на поверхность сознания из глубин психики осколки воспоминаний, связанных с внутриутробной жизнью, поскольку именно туда мы отправляемся, как считал Фрейд, во время засыпания.
Шребер интуитивно точно, как мы полагаем, связал еще полностью непроснувшийся психический аппарат с видением. Указав, что “природу неправильного образа мышления следует выводить из памяти о процессах, которые были регулярным сопровождением нервного придатка, снятого спящим человеком (во сне)”; он указал нам на источник “ошибки”, который кроется в его “Я”.
При этом не догадываясь, что образ Аримана происходит из фетального воспоминания о величии, Шребер правильно указал на временную связь, возникающую в просоночном состоянии: между “божественными лучами и нервами соответствующего человека” и являющуюся одной из причин “вдохновения по поводу любых вещей, касающихся будущего, стимуляции поэтического воображения и т. д”.
Убедившись ранее[8] в том, что плод имеет некоторые, если не все, психические функции, мы должны посмотреть на этот мир его глазами, используя при этом фетальные воспоминания самого Шребера, которые составляют основную массу его бреда.
Эти воспоминания трудны в понимании, потому что они представляют собой в чистом виде результат работы по их сгущению, а потом и распада.
В его воспоминаниях одни объекты имеют признаки и свойства другого, совершают действия, характерные для третьего, при этом из его утверждений следует, что это совершенно другой, четвертый объект[9].
При прорыве этих воспоминаний в сознание происходит случайное соединение части одного образа с частью другого, а в результате формируется некое мифическое существо (лучи, души, маленькие человечки и т.д.), для которого характерны свойства иных образов. Тоже самое относится и к голосам, когда слова одного образа воспоминаний, приписываются другому.
В силу того, что в этих воспоминаниях «спрятано зернышко истины, в них есть нечто, что действительно заслуживает веры, и именно здесь источник глубоко оправданной убежденности больного»[10]; несмотря на то, что они изложены на “основном языке”, не имеют стройной логики и трудны для понимания, и в нашем мире, и в нашем понимании они называются бредом; эти воспоминания являются тем единственным проводником, который позволит нам, находящимся в трезвом уме и твердой памяти и не спящим в этот момент, вернуться в мир фетальных переживаний.
При попытке посредством разделения этих воспоминаний, добраться до скрытого в них смысла, мы, не имея полного представления о картине, и какого-либо представления о личной истории каждого из них, можем ненароком разорвать, имеющиеся между ними природные и причинно-следственные связи и, напротив, оставить соединенными те, которые нужно было бы разделить. А поэтому просим снисхождения у внимательного читателя, если сделаем мы это неаккуратно.
Это напоминает, картину мозаики, которую мы никогда не видели, но которую мы должны снова восстановить из тех обрывочных сведений, которые мы получаем от бредящего человека. Это тем более трудно сделать, если нам предложены части различных мозаик. Очень высока вероятность, что в результате мы так и не сможем восстановить ту картину воспоминаний, которую нам мог бы поведать психически здоровый человек; у нас всегда получится нечто иное, возможно, где-то, по-прежнему, и не совсем понятное, но уже доступное хоть для какого-то понимания.
В качестве яркого примера того, что мы можем сослаться на картины Сальвадора Дали, в картинах которого образы, пусть “неправильно” собранные, уже отделены друг от друга и хоть как-то напоминают символы, доступные нашему осознанию.
Задумаемся, а, что представляет собой возврат к опыту внутриутробного существования (когда важно было только существование без какого-либо смысла жизни), если не форму самоубийства? Права была С. Шпильрейн, которая отображая состояние маленького мальчика, писала: “Отто тоскует по смерти, потому что он тоскует по единению с матерью (возвращение), по времени, когда его еще не было здесь”[11].
Говоря о голосах Шребера, воспользуемся формулой Фрейда[12], в соответствии с которой они являются производными внешнего влияния на “Я” и условием формирования Я-идеала.
При бреде мы видим, что, окунаясь в него, бредящие пациенты, демонстрируют нам прямо противоположные желания. С одной стороны, они проявляют свое нежелание находиться в реальности и свою тягу к фетальному состоянию, а, с другой, бегут от открывшихся перед ними воспоминаний. Является ли эти процессы следствием притягивания и отталкивания сознания фетальными переживаниями (воспоминаниями), либо реальность отталкивает их сознание в прошлое, или, что скорее всего, оба эти процесса работают сообща, нам еще предстоит выяснить. В любом случае это согласуется с нашими предположениями о том, что травмы и удовольствия фетального периода, могут откладываться в нашей памяти и консервироваться там.
Ведь, если не за фетальными удовольствиями мы возвращаемся во внутриутробное состояние, то зачем? Принцип удовольствия еще никто не отменял. Другое дело, что там мы встречаем и неприятные для нас воспоминания. Это напоминает желание детей слазить в соседский сад, позабыв о том, что вернуться можно и без штанов.
На примере бреда хорошо видно, что воспоминания прошлого, получив вследствие обращения к ним либидо дополнительную энергию, оживают и как при сновидениях проникают в сознание, но уже в форме бессознательных образов и впечатлений, которые к тому же изложены на “основном” языке, языке символов.
Поверхностные, т.е. отложенные в недавние прошлые времена воспоминания, нам понятны и нами интерпретируются самостоятельно – мы вспоминаем. В таком случае перед нами встают образы и переживания вчерашнего дня, юности, детства и т.д., которые никоим образом не беспокоят нас своим появлением. Более ранние, поскольку они за давностью лет слежались, а, сформированные логические цепочки в результате сгущения распались, выходят на поверхность в форме обрывочных сведений.
Эти воспоминания, вследствие обретения ими дополнительной энергии, с учетом выявленной, на первый взгляд их нелогичности и непонятности, захватывают сознание бредящих больных и формируют у них новую форму поведения. Но эти воспоминания не являются абсолютно чуждыми их сознанию – они плоть от плоти обрывки ранее пережитого ими опыта.
Легкость возникновения бредового состояния у ранее психически здоровых людей, перенесших шок, травму или тяжелое соматическое заболевание, указывают нам не только на существование в глубинах психического аппарата особой группы воспоминаний, но и на их готовность прорваться в верхние слои сознания.
Они в полной мере используют ситуацию, когда ранее не пропускающая их в сознание структура ослабнет настолько, что это позволит им прорваться в верхние слои психического аппарата.
Сложность анализа бреда и обнаружение в нем смысла, заключается в том, что он не имеет примечаний и пояснений о том периоде, к которому эти воспоминания относятся. Но это не должно нас отталкивать. Напротив, в необходимости найти их смысл, мы и видим свою задачу. Бред не должен оставаться бредом. Он должен стать доступным нашему пониманию уже потому, что и сами его элементы стремятся восстановить свои старые разорванные связи, приобрести новые и в этом качестве опять опуститься на дно бессознательного как это делают наши ежедневные переживания.
И вообще, бред мы считаем побочным продуктом восстановления либидных путей – самовосстановления функций «Я» пациентов.
Но насколько бы полезной мы не считали функцию бреда, сопровождающие его переживания, не становятся нам от этого желанными. Страх перед фетальными воспоминаниями отталкивает нас от их изучения и понимания.
Бессознательно боясь оживления своих собственных воспоминаний, не желая «заразиться» ими, оживить их, что называется, подхватить бред (заболевание) от другого, и уж тем более попасть в него, мы всячески стремимся избегать встречи с психически больными пациентами; а поэтому отталкиваем их от себя и вырабатываем новые формы поведения, которые в форме навязчивых ритуалов становятся буфером между ними и нашим сознанием.
Даже специалисты в области психического здоровья не лишены этих страхов. Этот страх проявляется в их нежелании изучать природу бреда (иначе пришлось бы не только его приблизить к себе, но и проанализировать, что неминуемо влечет за собой оживления собственных воспоминаний).
Они не ведут полноценных дневников заболевания и, уж тем более, за очень редким исключением, публикуют их для изучения другими. Можно считать большой удачей, что в случае Шребера (благодаря его Мемуарам и Истории болезни) мы имеем взгляд на его душевное состояние, что называется “изнутри” и “снаружи”.
Конечно, большой потерей является отсутствие фетальной истории каждого больного человека. Является нормой, что от нас скрыта вся информация о прохождении больным фетального периода своего развития. Мы не знаем, была ли у него угроза прерывания беременности; было ли у матери в период беременности какое-либо заболевание; получала ли она травму живота или психическую травму; как протекала ее сексуальная жизнь в период беременности; как протекали роды и т.д., т.е. вся та информация, которая бы указывала нам на угрозу жизни плода.
Рано или поздно, у предрасположенного к психическому заболеванию человека, эта информация выйдет наружу, но уже в далеко запущенной форме, в форме бреда.
Думаем, что придет время, когда родственники душевнобольных возьмут на себя труд вести дневник их болезни, в котором будут отображены их видения. Информация, содержащаяся в нем, при недоступности и недостатке у пациента внутренних фиксаций, будет выполнять роль внешних, опираясь на которые психиатры и психологи смогут выложить дорожку из того состояния, которое мы называем бредом, в реальный мир.
К тому же, не следует забывать, что страх сойти с ума, как и детский страх существ под кроватью, исчезает с появлением света в прямом и переносном смысле – света сознания.
Мы считаем, что знание и понимание символов “основного” языка, предохранит нас от возможности однажды окунуться в бред, запутаться там и не найти обратную дорогу, как это уже было с множеством талантливых психологов.
Тысячу раз прав был Шребер, когда писал свои Мемуары и надеялся, что они будут важны для науки. Более ста лет прошло со времени публикации его Мемуаров, но до сих пор не появилось столь подробного описания внутреннего содержания бреда от первого лица.
В основу настоящей работы мы положили случай Шребера, но будем использовать и другие источники.
Прежде чем мы приступим к интерпретации случая Шребера остановим внимание читателя на том факте, что личность Шребера периода болезни не представляла единое целое. Она как будто была выстроена по принципу мозаики; в одном случае он демонстрировал поведение глубоко психически больного человека, а в другом, ничем не отличался от остальных (здоровых) людей.
Чтобы не возвращаться больше к теме, а был ли Шребер, пока находился под наблюдением психиатров, хоть когда-то, пусть и временно, здоров, остановимся кратко на описании его состояния, которое зафиксировал у Шребера доктор Вебер в 1902 году.
При этом напомним читателю, что, выдавая суду характеристику Шребера, Вебер был против удовлетворения судом требований Шребера о его выписке.
Из его Заключения от 5 апреля следует, что с тех пор как Шреберу был предоставлен без каких-либо ограничений свободный выход из лечебницы в город, он своими ежедневными экскурсиями пешком, на судах или по железной дороге в одиночку, частично в компании тех или иных пациентов, которых он иногда брал себе в спутники, посетил почти все достопримечательности городка, а также концертные, театральные и общественные выступления. Во время выхода из лечебницы, его поведение характеризовалось тем, что он никогда не выполнял непонятного и неуместного предпринимательства, что он всегда открыто и безоговорочно говорил о своих планах и намерениях, которые могли выйти за рамки повседневной жизни, соблюдал договоренности с руководством лечебницы, всегда вовремя прибывал со своих экскурсий. Никогда не было никакого серьезного ущерба его общению с внешним миром. Поскольку ему был предоставлен довольно свободный выход из убежища, ему также была предоставлена несколько большая сумма в качестве пособия для его экскурсий и небольших потребностей и не было видно, чтобы он расточительно расходовал эти деньги. Он не был ни особенно экономным, ни особенно расточительным. Хорошо разбирался в каждом вопросе приобретения, избегал дорогостоящих вещей, (кроме небольших ювелирных изделий). Был прекрасно осведомлен о своем материальном состоянии. Он следил за своим здоровьем и не наносил ему вред своими произвольными действиями, поддерживал чистоту и уход за телом, ел достаточно, если не слишком много, был довольно умерен в напитках и стремился поддерживать эластичность и свежесть своего тела благодаря регулярной гимнастике. Одновременно с этим в ночное время он производил шумные действия, которые являлись предметом жалоб, хотя сам он не совсем хотел верить в такое беспокойство и оценивал их как весьма незначительные. Периодически он мог начать строить гримасы, щурить глаза, очищать горло, своеобразно поворачивать свою голову. Имел часто очень значительное нарушение сна, для которого, кстати, наркотики теперь не использовались. Временами выражал беспокойство, которое могло возникнуть в любой момент. При возникновении недомоганий он проявлял иррациональное поведение. В частности, когда у него возникли гастроэнтеральные нарушения (был атакован поносом и рвотой), болезнью, не вызывающей особой озабоченности, то он видел в этом “божественное чудо”, впадал в большое волнении и вместо того, чтобы оставаться в постели, и соблюдать строгую диету, а также принимать лекарства, под влиянием своих болезненных психических процессов, делал обратное и таким образом продлевал недомогание.
А вот, что следует из письма директору клиники сестра Шребера. “1902 год после выписки он провёл у матери, где его поведение внешне казалось совершенно нормальным. Он занимался ведением домашнего хозяйства, много времени уделял прогулкам, участвовал в работе шахматного общества, хотел выполнять работы и для юридического министерства, но таковой для него там не нашлось. Хотя часто оказывал какую-то юридическую помощь, причём никогда не совершал ошибок. В первый год он ещё часто кричал по ночам, а однажды, когда он путешествовал, это произошло на людях. Но постепенно крики становилось реже, лишь иногда он кричал во сне. Но и тогда обходился по ночам без снотворных. После смерти матери ему пришлось сделать много перерасчётов, связанных с разнообразными делами, он немного переутомился и несколько ночей плохо спал”[13].
В пользу наличия у Шребера здоровой части личности говорит, выигранный им судебный процесс о его неправомерном удержании в лечебнице.
Безусловно, настойчивое желание Шребера опубликовать свои воспоминания, являлись свидетельством «важности», сделанных им “открытий”, основанных на его собственных переживаниях, которые он воспринимал, как открытие новой истины, важной не только для него, но и для всего человечества. Эти воспоминания должны были, по мнению Шребера, обогатить человечество новыми знаниями о Боге и о жизни после смерти.
Осознавая важность своего опыта для человечества, он игнорировал собственные неудобства, связанные с публикацией Мемуаров.
Стремясь рассказать нам о жизни после смерти, Шребер, не замечая этого, сам поведал нам о жизни плода, его травмах и удовольствиях, связанных с периодом его фетального развития.
Интуитивно понимая динамику возникновения и исчезновения симптомов его заболевания, он остро нуждался в дружеском, если не в родственном соучастии.
Вспомним насколько положительно он относился к доброжелательным “поглаживаниям” и как резко улучшалось его психологическое состояние после разговора с доктором Тойшером, когда он понял, что его судьба может быть небезразлична кому-то из докторов Зонненштайна (“Чертова замка”); после его восьмидневного пребывания у родственников (когда он вернулся просто счастливым); первичный прием у Флексига, который добрыми и нежными словами возродил у Шребера надежду на полное излечение, так же свидетельствуют о роли доброжелательного отношения в положительной динамике симптомов.
Есть и другие примеры, когда доброе, человеческое отношение разворачивало картины заболевания. Приведем, к примеру, историю Рене, в которой она боролась против «Света» вместе со своим аналитиком, которая чуть позже стала ее „Мамой“. Лишь рядом с ней она чувствовала себя в безопасности, особенно, когда она садилась рядом на диван и клала руку ей на плечо. Рене вспоминала: “О! Какое счастье, какое облегчение чувствовать жизнь, тепло, реальность!”[14].
Не будем упускать из виду и обратный процесс, когда психическое состояние Шребера резко ухудшалось после грубого с ним обращения. К примеру, драка в бильярдной и его изоляция, резко ухудшили его состояние; неуместные шутки санитаров с утоплением, которые они допускали к Шреберу в ванной; все это приводило к закреплению мысли о заговоре и убийстве.
Эти шутники, далекие от знаний глубинной психологии, даже не понимали того, что своими действиями с находящимся в воде человеке, потакали его негативным фетальным переживаниям, эксплуатировали их в интересах аффективных переживаний бреда.
Ради справедливости зададимся вопросом. А кто из нас не возмутится и не потеряет выдержку, когда в его комнату ворвутся посторонние и начнут крутить ему руки; или во время приема им ванных процедур, начнут дергать его за ноги, утаскивая под воду, делая это только с целью выражения своего игривого настроения?
Поскольку основу наших интерпретаций составляют утверждения о том, что Шребер регрессировал на внутриутробную стадию развития, нам следует в подтверждение этой мысли связать в единое целое картину регрессии и сроки беременности. И хотя бы приблизительно определить до какого уровня фетальной жизни он опустился.
Сделать это будет достаточно сложно, а результат будет предположительным, пригодным только для выдвижения гипотезы. Объяснить это можно тем, что уже на 20 – 24 неделях у плода появляются оральные функции (сосание, глотание, вкусовые ощущения, возможно, что и обоняние); слух и зрение, рефлексия. В связи с чем мы можем сделать первое предположение: использование в бреде органов чувств, слуха и зрения, указывают на то, что регрессия в данном случае возможна не далее этого срока. Но возникнув однажды, они функционируют и дальше, а поэтому слуховые и какие-либо иные галлюцинации могут отображать воспоминания более позднего периода фетального развития. Но учитывая, что до 26-28 нед. глаза плода открыты частично, мы можем предположить, что он находится в “бессознательном” состоянии и функционирует на уровне рефлексов. Все это позволяет нам поднять нижний уровень регрессии до 29 – 32 нед. В этот период плод отдыхает, рост тела замедляется, ускоряется рост головного мозга, плод практически не двигается, глаза открыты в фазе “бодрствования”, закрыты во время “сна”. Плод приобретает позу эмбриона. Но поскольку в этот период мозг плода продолжает расти, а сам плод находится в стадии отдыха, трудно согласиться с тем, что именно к этому уровню возможна регрессия. Для этого более подходит более поздний фетальный период, соответствующий 34 – 36 нед. развития. В этот период плод способен к ориентации и поворотам на свет.
Поэтому этот период фетального развития Шребера (34 – 36 нед.) мы считаем наиболее вероятной глубиной регрессии его психического аппарата. Это подтверждается тем, что на восьмом месяце внутриутробной жизни у плода признаки активности мозга соответствуют активности мозга доношенного плода. А память у Шребера была отличной с самого рождения.
Итак, в случае Шребера и других случаях душевных заболеваний мы видим обратное тому, что говорит нам психоанализ о функции сновидения: – во сне он был несчастен, а по пробуждению становился счастливым. И тогда сам собой встает вопрос. Почему? Почему в его случае невозможность выносить реальный мир непрерывно, уступает его же желанию уснуть и вернуться в ту фетальную безмятежность, которую ему и всем нам вроде как обещает состояние сна? Почему ему во сне вместо неги сна, предлагалось чувство, которое он сам ассоциировал с несчастьем? И почему желание поспать у него превратилось в нежелание (невозможность) заснуть?
Наш вывод такой. Между внутриутробным состоянием, которое когда-то приносило ему чувство удовлетворения и состоянием бодрствования «выносить которое непрерывно невозможно», возникло некое препятствие, которое по своей пока еще непонятной для нас наполненности, превышало по своей силе тот ужас бытия, который неоднократно подводил его к красной черте прощания с жизнью. Жизнь, пусть и в коротком отрезке времени, ему была настолько немила, что он хотел умереть, но еще больше он не хотел (не мог) заснуть.
Учитывая, что из настоящего переложить в прошлое некую информацию (переживания), которая там (во внутриутробном мире) никогда не находилась, невозможно, а значит, мы должны сделать вывод о том, что та информация, которая делала его несчастным, у него уже была и имела она фетальное происхождение.
Мы знаем, что бессонница не всю жизнь сопровождала Шребера, во всяком случае он об этом ничего не говорил. Пропажу сна Шребер заметил в период начала его нервной болезни. Почему же, в таком случае, фетальная информация, дремавшая в его психическом аппарате долгие годы, вдруг ожила и стала причиной его сонливых несчастий?
Не сильно нас интригуя, Шребер сам предложил свою версию причин бессонницы – его фантазии о желании стать женщиной и в новом гендерном обличье вступить в половой акт.
Отвлечемся на некоторое время от этого сновидения, для того, чтобы отметить, что такое сновидение можно назвать типичным. В “Трудах Московского научно-исследовательского института психиатрии МЗ РСФСР”[15] мы встретили описание аналогичного.
Наш интерес к этому случаю поддерживается тем, что он похож на случай Шребера. В них описан случай Александра Васильевича[16] (Александры Васильевны), 1904 г.р. (в возрасте 55 лет), который как-то проснувшись утром почувствовал “необычно сильное влечение к женщинам и появилась необыкновенная мысль о том, что как приятно было бы стать женщиной”. Но в отличии от случая Шребера, это сновидение стало для Александра Васильевича предвестником обретения нового, женского счастья.
К этому случаю мы еще вернемся, когда будем обсуждать свое видение строения психического аппарата, а пока вернемся к Шреберу и вспомним, что чуть позднее “женское” удовольствие Шребера все же посетило, притом посещало оно его неоднократно в течение одной ночи. Своими “радостями” он даже поделился с женой, чем напугал бедную женщину.
Здесь мы зададимся вопросом, а есть ли вообще такие женщины, которые, проснувшись, хотели бы вступить в половой акт? А мужчины? Сам собой возникает вопрос, а почему Шреберу для того, чтобы вступить в половой акт, потребовалось, пусть и невольно, изменить своему телу? Точно так же, не меняя своего гендерного обличья, он мог проснувшись, вступить в половой акт, как это делает огромной количество семейных и несемейных пар. Создается впечатление, что на пути получения сексуального удовольствия появилось препятствие, которое он никак не мог преодолеть.
Забегая вперед, отметим, что, по нашему мнению, это препятствие могло заключаться в долговременном вольном или невольном отказе от сексуальной жизни, которая проявлялась в исполнении “мужской роли”. Этот отказ касался не только сексуальных отношений со своей женой, но и каких-либо суррогатных удовлетворений.
Сразу обратим внимание читателя на то, что тот же самый итог воздержания мы увидели и в случае Александра Васильевича.
Из Мемуаров Шребера нам известно, что через сновидения к нему приходила информация о том, что его прежняя нервная болезнь возвращается. Эти сновидения во время самого сна делали его несчастным, в то время, как после пробуждения он становился счастливым, понимая, что это лишь сон. При этом его чувства коррелировали между собой, поскольку “он чувствовал себя во сне настолько же несчастным, насколько счастливым после пробуждения”.
В связи с этим на ум приходят слова З. Фрейда, который писал: “Чем интенсивнее и существеннее элемент тягостного настроения в мыслях, скрывающихся за сновидением, тем увереннее наиболее подавленные желания воспользуются возможностью найти себе выражения”[17]. В случае Шребера так и произошло – он испытал женскую похоть.
А поскольку во сне мы возвращаемся в прошлое, то и потерянное блаженство – это чувство из прошлого. Вытолкнутое сном на поверхность сознания чувство несчастья, должно нам указывать на потерю врожденного блаженства, иными словами на место фетального удовольствия стало фетальное неудовольствие. Засыпая Шребер должен был окунуться в фетальное чувство блаженства, но этого не происходило. Вместо этого он обнаруживал там нечто иное, что вызывало у него неудовольствие.
Если так, то там могла быть только одна информация, которую мы можем назвать негативными воспоминаниями о внутриутробной жизни, со всеми присущими им переживаниями.
На этом и остановимся, и сделаем предположение о том, что причиной внутрисонного несчастья Шребера являлись фетальные переживания (воспоминания), которые содержали в себе что-то такое, что делало его несчастным, что не только отталкивало от себя, но и являлось основанием для отказа вообще приближаться к этому состоянию – засыпать. Можно даже сказать это словами Фрейда: “…Он с трудом засыпал, так как боялся, что увидит во сне такие же дурные вещи…»[18].
Засыпание – есть процесс возвращения либидо в “Я”, а просыпание – обратный процесс. С учетом этих постулатов, то, что именно во сне Шребер чувствовал себя больным и несчастным, указывает нам на то, что в его “Я” начали формироваться определенные патологические процессы, лишающие его либидо достижения нарциссического удовольствия. Вместо удовольствия, которое он намерен был испытать, возвратившись к фетально-нарциссической фазе, его ждало разочарование и неудовольствие, которое рано или поздно должны были стать настолько сильными, что он вынужден был отказаться от возвращения в “мужское Я”, и “потребовать” “гендерного переворота”.
Сам собой возникает вопрос, откуда у Шребера взялось желание получать женское сексуальное удовольствие?
Попытаемся на него ответить.
Ранее в работе «Травмы и удовольствия фетального периода» мы сделали предположение о том, что, психический аппарат матери соединен с психическим аппаратом плода, что психические осознанные и неосознанные процессы матери, не только выполняют определенную жизненную функцию в ее и его организмах, но и копируются в психический аппарат плода; что, копируя в психический аппарат плода свои переживания, мать, “не стесняясь” этого, передает ему и свои сексуальные переживания, и ощущения.
Эти воспоминания еще живы у детей. В качестве примера приведем наблюдение О. Ранка, который писал, имея в виду маленькую девочку: “…Она при приближении маленькой собаки делает такие же характерные защитные движения, как взрослые – при виде мыши: она, плотно стискивая ноги, сгибает колени так, что опускает свое платьице до земли и может укрыться им, как будто хочет не дать в себя “проскользнуть”[19].
Мы видим этот процесс следующим образом. Находясь в утробе матери, плод переживает вместе с ней ее ощущения, т.е. мать посредством своего психического аппарата передает соответствующую информацию психическому аппарату своего плода. И не будем бояться того, что при регрессиях возможно и оживление этой информации. Это подтверждает опыт людей находившихся под воздействием ЛСД и утверждавших о пережитом ими опыте родительского совокупления[20], или даже, как писал Фрейд: “Он желает вернуться в материнское лоно, не просто для того, чтобы снова родиться, а, чтобы отец застал его там при коитусе, дал ему удовлетворение, и чтобы он родил отцу ребенка”[21].
Плод, как выясняется, эту информацию переживает и фиксирует с теми или иными событиями и его ощущениями. Но поскольку “Я” не является целостной структурой, а состоит из множества второстепенных “Я”, при регрессии, в которую попал Шребер, на первое место вышло дополнительное “Я”, богатое женскими переживаниями.
Об этом мы порассуждаем в работе о строении психического аппарата.
В качестве аргумента сошлемся на Р. Лэнга, который писал: “Фрейд считал, что гомосексуальность (в данном контексте для нас важен только феномен сексуальности, а не ориентации, прим. авт.) является причиной развития мыслей о преследовании. Мы не видим в обоих феноменах ничего, кроме двух параллельных форм выражения одного и того же сжатия и разрушения человеческого существования, а именно две разные попытки вновь обрести утерянные части своей личности”[22].
Т.е. речь идет о разных частях личности, стремящихся к новому воссоединению всех структур «Я» в единое целое.
Как нас учит практика, симптом болезни указывает на ее причину.
Одним из симптомов такого рода является его сновидение о желании проснуться “женщиной, готовой вступить в половой акт”. Проникнувшее в сознание вслед за этим желанием негодование, мы должны отнести к механизмам защиты, которое относится как ко всему смыслу сновидения, так и к тому, что оно вообще смогло выйти наружу.
Таким образом, получается, что кроме отказа вернуться во внутриутробное состояние, которое мы должны подозревать при каждом эпизоде засыпания, отказ от сна произошел и из-за того, что где-то в глубине его души ожило, непонятное его сознанию желание “заглянуть на женскую половину” и испытать на себе радости женской сексуальной жизни.
Казалось бы, что здесь такого? Сегодня никого не удивишь сменой гендерных ролей. Полагаем, что и задолго до Шребера существовали люди “завидовавшие” противоположному полу. Еще сегодня дети раннего возраста готовы отказаться от привилегий своего пола в пользу привилегий противоположного.
Но мы не должны забывать, что до периода развития заболевания за Шребером не водились какие-либо намеки на скрытые желания провести какую-либо сексуальную реформу. Даже, напротив, он испытал негодование по поводу подобных фантазий.
Всецело отнеся фантазию о новой гендерной роли к симптомам заболевания, мы должны считать поврежденными и сами условия, при которых стало возможным проникновение этого желания в сознание.
В данном случае, как мы считаем, речь идет о симптоме регрессии на ту стадию развития, на которой мы должны были ответить на “поставленный” нам в утробе вопрос. Кем ты хочешь быть, мальчиком или девочкой?
И эта, вдруг запоздало обострившаяся биологическая дилемма половой идентификации, уводит вектор нашего внимания в прошлое, в сторону внутриутробных переживаний.
Однако, если мы предположим, что этот процесс происходит вдруг и не имеет связи с пережитыми событиями, и ранее никак не проявлялся симптомами, мы совершим ошибку, которая лишит нас возможности увидеть логичность и закономерность разворачивающейся картины заболевания, а значит еще и предвидеть появление новых симптомов. Поэтому, когда мы видим, что взрослый человек демонстрирует регрессивную форму поведения, мы вправе ожидать, что однажды он не удержится на границе младенчества и провалится в еще более раннюю, фетальную стадию своего развития.
Предупреждая эту неосторожность, мы напомним сами себе, что в процессе своего развития, мы шаг за шагом овладевали новыми биологическими, физиологическими и психологическими функциями, владение которыми предполагало полное, соответствие установленному природой порядку и очередности.
Говоря о пошаговом познании плодом окружающего мира, мы не должны забывать о том, что это познание имеет возвратно-поступательный характер. Он проявляется тем, что мы снова и снова возвращаемся к одной и той же теме, пока наши с ней отношения не перейдут в разряд автоматических. Именно таким образом, как мы считаем и формируется та или иная фиксация. Иными словами, неоднократно повторяя один и тот же процесс, мы вытачиваем для себя фигуру, к которой позднее и будем крепить нити более поздних фиксаций. Все остальное уходит в стружку.
К примеру, возьмем наши детские попытки встать и пойти. Как мы сейчас понимаем, процесс в общем-то достаточно простой – встал и пошел. Но для маленького ребенка, который еще не овладел всеми дополнительными для этого функциями это большой и тяжелый труд. Пока он не подкрепит свое желание дополнительными функциями, вестибулярными, зрительными, к примеру, и т.д., он не пойдет. Поэтому получается, что в основе процесса овладения своими функциями лежит неоднократное повторение одного, второго, пятого, десятого и т.д. простого действия.
Вернемся к случаю Шребера и увидим, что особенную группу бредовых утверждений Шребера составили феномены, так или иначе относящиеся к формам навязчивых повторений, действий. Эти феномены, поскольку они являются симптомами психологического плана, требуют своего объяснения, для чего нужно сделать предположение, что навязчивость – это фетальная форма усвоения полученного материала, как это позднее происходит в детстве при заучивании звуков, слогов, слов, стишков и т.д., что, согласитесь, невозможно сделать без повторения.
Обратимся к тому, что беспокоило Шребера. Это целая череда навязчивых действий, которую он назвал принудительным мышлением. Эта навязчивость и принудительность мышления являлись формой защиты его психического аппарата от распада мыслительной деятельности, которую здоровая часть личности Шребера боялась приобрести. Вспомним, что при госпитализации от утверждал, что “наконец-то стал душевнобольным”. При этом под потерей мыслительной деятельности мы должны подразумевать регрессию, в состоянии в котором человек теряет способность что-либо понять и рационально объяснить. Это состояние свидетельствует о распаде причинно-следственных связей, из которых и состоит фиксация. А потеря одной фиксации ведет за собой возврат к другой, где еще крепки эти связи.
Но, если бы наши фиксации выстраивались так же как в детстве выстраивались наши пирамидки только в одной плоскости, мы бы никогда не возвращались (регрессировали) к самой первой (фетальной) фиксации, а регрессировали бы, к примеру, с подросткового уровня до отрочества, или от отрочества до грудничкового. Но в том то и проблема. Наши фиксации выстраивают свои связи одновременно во всех возможных плоскостях, одновременно во всех временных промежутках, связывая в единое целое прошлое, настоящее и будущее. Поэтому в своих регрессиях, обвалившись до одного уровня, мы скатываемся в какую-то щель, а оттуда еще ниже и еще глубже, пока не регрессируем до того уровня, ниже которого уже ничего нет. И каждый из нас, где-то на подсознательном уровне об этом знает, ведь каждую ночь мы какими-то непонятными путями спускаемся до того же самого уровня и, что интересно, так же легко находим обратный выход.
Знал об этом и Шребер. Боясь потерять умственную способность и говоря о размягчении мозга, он не только фиксировал для врачей тот уровень на котором оказался, но и просил их о помощи, не понимая, что он уже оказался в руках людей, которые сами находились в плену у тех же самых страхов сойти с ума, в руках людей, которые думали, что посредством анатомических срезов смогут найти очаг безумия, что посредством таблеток, пилюль и порошков, снотворных и наркотических препаратов можно восстановить работу психологического аппарата, т.е. восстановить оборванные фиксационные и причинно-следственные связи.
Если исходить из того, что регрессия возможна только на тот этап развития, который уже был пройден, т.е. существовал в прошлом, то получается, что, боясь потерять мыслительную деятельность, Шребер боялся вернуться в детское, если не фетальное, состояние, от которого, собственно, и начался отсчет понимания и осознания этого мира.
Это ожидание “душевнобольности” должно указать нам на происходящие задолго до манифеста заболевания процессы.
Приписывая Богу торопливость с выводом о том, что его (Шребера) “умственные способности упали, а значит происходит разрушение ума”, он сам защищался от этих внутренних убеждений, которые свидетельствовали о понимании Шребером того, что он движется в сторону примитивного, более раннего состояния. Но он, не имея специального образования, также, как и Флексиг связывал работу своего психического аппарата с мозговыми процессами, размягчением мозга.
Механизм принудительного мышления, как писал Шребер, запускали, окружающие его звуки, имевшие монотонное звучание – звуки механизмов, вибрации, шум ветра, грохот поездов, мурлыканье цепного парохода, музыка, скрип обуви и так далее и тому подобное, “повторяющиеся ежедневно от сотни, до сотен тысяч раз”. Вслед за ним возникало навязчивое проговаривание фраз (“если бы только проклятые железные дороги перестали говорить”, “если бы только проклятый цепной пароход перестал говорить, если бы только проклятая жара прекратилась” или “если бы я не спотыкался” и т. д), которое, опять же, проговаривал не сам Шребер, а голоса, души, птицы, получившие доступ к его нервам и вызывавшие их вибрацию.
Но зададимся вопросом, тот “классический фрикционный ритм”, как назвал шум колес Смирнов В. [23], который Шребер обнаружил в работе механизмов, и который он перенес на птиц, оставив за ними, а не за собой право вибрировать и приводить в движения его нервы, трамвайный ритм (Таа-та-та-таа-таа – нечто вроде повторяющейся мелодии Равеля), который услышал Джесси Уоткинс[24], какую роль они должны играть в жизни регрессировавшего пациента? И чем еще, если не регрессией до фетального периода развития, мы можем объяснить возвращение фетальных звуков, которые слышит плод?
Насколько важным (в смысле фрикционности) для плода является монотонный звук в форме биения сердца матери, шума сосудов и т.д., который против его желания (а, значит, навязчиво) доходит до его сознания? Плод, хоть и является свидетелем “родительских отношений”, все же не так реагирует на них, и они не так для него важны, как давно знакомые ему шумы организма матери.
Другим примером навязчивого действия, указанные Шребером, являются, “говорящие в нерв” (в течение многих лет каждый день во сто кратном повторении) отдельные союзы или наречия, провоцирующие различные размышления в ответ на слова “Почему только?”, “Почему – потому что”, “Почему – потому что я”, “Если только”, “В отношении его” (то есть в отношении Шребера). Но, пусть не покажется читателю абсурдным, но к формам навязчивого действия мы бы отнесли и рождение ассоциаций.
Причину и природу появления ассоциаций мы видим в тех же самых процессах, посредством которых в сновидениях всплывают давно забытые воспоминания. Другое дело, что за этими воспоминаниями прячутся более древние, фетальные, которые не могут быть изложены иначе, как на языке символов, поскольку появились и были зафиксированы на доязыковом этапе развития. Вообще, следует предположить, что и фетальные воспоминания, и воспоминания грудничкового возраста, и воспоминания раннего детского периода не могут быть изложены посредством обычного языка, только по той причине, что в то время, в момент их фиксации, этим инструментом коммуникации эти лица еще не владели.
Обратимся к случаю Джесси Уоткинса, который описывая свое состояние, говорил: “Я обнаружил, что у меня были периоды, когда я выходил из такого состояния, у меня были сравнительно ясные состояния, и я читал… я читал газеты, потому что мне давали газеты, но я не мог их читать, потому что все прочитанное вызывало массу ассоциаций. В смысле, я просто читал заголовок, и заголовок статьи вызывал у меня в голове многообразные ассоциации. Казалось, включалось все, что я читал, и все, что приковывало мое внимание, казалось, включало все, что я читал, -бах-бах-бах -неимоверным количеством ассоциаций, входящих в вещи, так что мне становилось трудно с ними бороться, и я не мог читать. Все, казалось, имело большую… намного большую значимость, чем обычно”[25].
За этим обилием бестолковых и бессмысленных ассоциаций мы предполагаем наличие более древних, изложенных на “основном” языке, языке символов, фетальных, которые по этой же причине трудны для осознания и воспроизведения.
Развивая тему принудительного мышления (гл. XVII), Шребер сам написал, что осознание причинности для каждого процесса, для каждого ощущения и для каждой мысли, постепенно привело к тому, что он прокомментировал почти все явления природы, касающиеся почти всех проявлений человеческой деятельности в искусстве, науке и т. д. Фактически Шребер указал нам на внутренний диалог.
Но кто вел этот диалог в его психическом аппарате и был ли этот “Кто” единственным, кто из глубин его психического аппарата задавал ему вопросы, мы узнаем чуть позже. А пока заподозрим в этом его добавочные личности.
В качестве возможной интерпретации мы можем сослаться на профессию Шребера, осуществляя которую он должен был вникнуть в смысл слов и предложений. А для этого требовалось уяснить всю гамму смысла слов, записанных на бумаге. Однако, как бы там ни было, но этот опыт являлся только механизмом, инструментом, посредством которого должен был осуществляться внутренний диалог.
Давайте вспомним о возрасте “почемучек”, возможно, он поможет нам разобраться с причинами появления этого навязчивого повторения.
Начнем с того, что для вопросов и ответов в игре “почемучек” требуются два человека: он и другой человек. В этой игре один настойчиво задает вопросы, другой, как бы сопротивляясь напору вопросов, ищет на них ответы, все более и более сокращая свою базу аргументов, доведя ее, в конце концов, до формального – “Потому”. “Почемучка” тоже упрощает объем своего вопроса словом “Почему”. Сокращается и диалог: “Почему?”. “Потому!”. “Ну почему?”. “Да потому!”
“Почемучка” и сам понимает, что не все разъяснения он понимает, можно даже сказать, что в некоторых вопросах, пусть они его и интересуют, он остается бестолковым.
В этой игре обращает на себя внимание борьба двух энергетических напоров, один из которых молодой и задористый, а другой, ослабленный.
И здесь возникают следующие вопросы. Почему свою способность к мыслительным фрикциям (своего рода заикание), Шребер “отдал” в распоряжение птиц, понимая, что они обладают природной бестолковостью? И почему эта бестолковость должна быть природной (врожденной)?
Не в молодости ли дело?
Но у Ш. Ференци есть свое понимание механизма возникновения навязчивых состояний. Он писал: “У меня есть основания предполагать, что периоды навязчивых состояний соответствуют сильным “толчкам” либидо”[26].
Сразу возникает вопрос, не противоречит ли Ференци в своих предположениях представлениям психоанализа.
При отсутствии у него каких-либо оговорок, мы должны исходить из того, что эти толчки осуществляются в неком пространстве (путях либидо). Но нет ли здесь колеи, в которую мы все попали?
Ответить на этот вопрос нам поможет кардиология. Из примеров которой, можно привести экстрасистолию. Природу этого состояния представляет внеочередной внутрисердечный энергетический импульс.
Увидеть в этом (иногда опасном для жизни) феномене пробивную способность либидо, мы не решаемся. В первую очередь, из-за того, что “толчок либидо” для того и привлекается, чтобы преодолеть некое препятствие на пути прохождения энергии. В данном случае этот “толчок” располагается, если смотреть кардиограмму, между двумя, в свое время состоявшимися, сокращениями сердца. Последующее сокращение состоялось бы в любом случае и без внеочередного импульса. Говорить в таком случае о каком-то блоке не приходится, поскольку причиной такого состояния является возникновение нового очага импульсов, а не его блокировка (сердце продолжает биться).
В случае навязчивостей мы тоже усмотрели новый источник возбуждения, которого раньше не было, но который вдруг появился, и это появление чудесным образом связано с оживлением его фетальных переживаний. Простое ли это совпадение?
Возвращаясь к энергетической теории психоанализа, заметим, что навязчивое действие является заместителем иного, вытесненного желания. Один раз пробив себе путь, импульс уже не нуждается в толчкообразном усилении, поскольку заменил собой другой, чем и решил задачу утилизации энергии.
Поэтому говоря о “толчках”, мы должны исходить из того, что скорее всего речь должна идти о некоем вмешательстве со стороны; вмешивающееся явление еще не в курсе того, что цель была достигнута, только это для него и неважно, у него свои цели. И здесь речь идет о новой личности.
Помните, Шребер говорил о том, что его души между собой не знакомы, а значит они и не в курсе действий других, как в случае Билли Милигана.
Ответ на вопрос, почему свою мыслительную деятельность Шребер “поручил птицам”, мы находим в символизме сексуального, лишенного эротического удовлетворения, как это происходит, к примеру, при истерии.
Но из истории познания истерии, мы знаем, что ее симптомы являются заместителями настоящего сексуального удовлетворения. А, поскольку заместитель приступает к исполнению обязанностей при бездействии первого лица, мы можем предположить, что у Шребера выпала сексуальная функция – страдал невозможностью осуществить полноценный (до полного “распада”, “Сексуальное влечение биполярно и содержит компонент, который требует распада “Я”“ (“Я” как бы “аннулируется во время сексуального акта”[27])) половой акт и неважно кто был причиной этого состояния, он сам или его жена[28].
Это предположение происходит из его навязчивых мыслей о женских радостях и появлении в его личности новой единицы, которая наравне с мужской личностью стала осуществлять свою женскую деятельность.
Помните, голоса Шребера говорили ему о формировании двух партий?
Не вдаваясь в спор о диагнозе Шребера, все же согласимся с тем, что его “Я” оказалось расколото.
О том, что причиной раскола личности Шребера произошло вследствие сексуального воздержания, мы предположили, прочитав его Мемуары. Но, что интересно, аналогичный случай Александра Васильевича это подтверждает.
Примерно, с 1954—1955 г. с возраста 50—51 г. Его постигла полная половая абстиненция: его жена решительно отказывалась от сближения, в особенности, после того, как при одной-двух попытках у него не было достаточной эрекции, и он потерпел фиаско. «Очень хорошо», заявила жена, «в нашем возрасте это нам не нужно». Однако, у больного возникали часто желания, изредка наблюдалась эрекция, но с другими женщинами не сближался, поскольку «не хотел обижать жену».
Размышляя о принудительности мышления и навязчивом проговаривании, приходишь к мысли о том, что эта повторяемость преследует цель обычного повторения (передразнивания), или прояснения смысла, или усвоения содержания, или научения. На ум приходит поговорка “повторенье – мать учения”.
Но чему должны научить Шребера, “повторяющиеся ежедневно от сотни, до сотен тысяч раз” звуки? Зачем Шреберу предлагалось выучить наизусть звуки механизмов и зачем они должны были сопровождаться такими же пустыми, ничего не значащими фразами? Не имеет ли здесь место обратный процесс, а именно трансляция уже заученного.
Конечно, в этом мы подозреваем фетальный период развития, но в качестве аргументов разъяснения приведем пример развития ребенка первого года жизни: он ведь тоже произносит одни и те же звуки, которые мы называем гулением.
Мы считаем, что эти навязчивости, также, как и навязчивости при неврозах навязчивых состояний являются алгоритмом поведения, за которыми прячутся иные его формы.
Но, если при неврозах навязчивых состояний у взрослых невротиков мы можем обнаружить сокрытие сексуальных желаний, то у регрессировавшего до фетального уровня Шребера, какие могут быть сексуальные желания? Ведь у плода их нет. К тому же не нужно забывать, что для формирования навязчивостей необходим постоянный напор энергии, а у Шребера, снующего то в фетальный период, то во взрослое состояние энергии для этого не хватало.
Однако и факт принудительного мышления не проигнорируешь. Возможно, если мы призовем на помощь свое понимание работы механизмов, то поймем, что у гудящего, но не выполняющего полезную работу механизма, автомобиля, к примеру, просто не хватает энергии для того, чтобы он завелся. Он при севшем аккумуляторе каждый раз выполняет одну и ту же работу, не в силах преодолеть определенный рубеж и завестись. Вот и психический аппарат Шребера был занят пустыми повторениями, что говорит о недостатке энергии. А этот недостаток развился в следствие его раздвоения на обслуживание интересов двух личностей – мужской и женской, вступивших к тому же в борьбу за одно тело.
Конечно, звуки, вызывающие “вибрацию” нервов, Шребер мог услышать и в реальной жизни, но тогда сам собой встает вопрос о том, почему эти вибрации не помешали ему достичь высокого общественного положения? Где эти вибрации были в то время, когда он учился в школе, университете, защищал диссертацию, работал председателем районного суда, в конце концов?
Мы считаем, что “вибрациозность”, т.е. нервозность “оживилась” после его регрессии до того фетального уровня, когда звук являлся постоянным спутником жизни плода и мог вызывать только ему одному известную ответную реакцию.
Нет никакого сомнения в том, что первое знакомство с монотонными звуками произошло у Шребера на стадии фетального развития, когда он мог слышать шум сосудов пуповины, или сосудов, увеличенной за счет беременности матки. Да и сердцебиение матери не проигнорируешь.
Вероятно, что появление монотонных звуков является симптомом регрессии сознания до фетального уровня.
Обратимся к Р. Лэнгу, у которого есть пример Джесси Уоткинса, который описывая свое состояние начала сумасшествия, говорил, что «музыка, которую он слышал из радио, основывалась на ритме трамвая”[29].
Вспомним, что при своей третьей госпитализации (1907г.) отвечая на вопросы о болезни, Шребер показывал на затылок, где “слышал постоянный шорох, словно бы кто-то тянул там за нить”.
Конечно, шум в ушах, затылке и голове может встречаться и у психически здоровых людей, в частности при повышенном артериальном давлении, сдвиге позвоночника или ушной пробке. Но он может быть и следствием обвития пуповиной шеи плода, или прилегания его головы к боковой стенке матки, где проходят сосуды.
Однако, в своей врачебной практике мы не встречали жалоб пациентов на шум в голове, который бы они описывали словами “кто-то тянет там за нить”. К тому же об артериальной гипертензии и об ушной пробке врачи того времени тоже были осведомлены, поэтому в качестве причины шума в затылке остается шум пуповины.
Пуповина гораздо ближе по строению к нити, да и “присутствие” кого-то рядом с шумами, хотим мы того или нет, опять же подводит нас к фетальным воспоминаниям. Кроме того, наши предположения о фетальном происхождении шумов и присутствием того, кто “тянет”, указывают нам на их внутреннюю связь.
В Мемуарах Шребера мы часто встречали слова “Верхний” и “Нижний” бог, “маленькие человечки”, “маленький друг”, “маленький Флексиг”, “Другой Шребер”.
Хотелось бы обратить внимание читателя на следующий феномен. Тот, кто следил за поведением детей грудничкового возраста (6 мес.), тот, наверное, обратил внимание на то, что эти дети с гораздо большим интересом наблюдают за более мелкими животными (ребенок, кошки, собаки и т.д.), чем за человеком. К примеру, если в его поле зрения одновременно попадают взрослый человек и более мелкое живое существо, то своим взглядом он сопровождает именно это существо. Возможно, что страх мелких животных является каким-то образом, связанным с этим интересом.
Конечно мы далеки от мысли, что плод понимает, где верх, где низ, где право, где лево, маленький, большой. Поэтому эти отличительные признаки, к кому бы они не относились (Бог, птицы, человечки, другие фигуры) являются свидетельством влияния его сознания на фетальные образы с целью придания им отличительных признаков, посредством которых человек вводит описание символов. Вместе с тем, реальность их существования мы тоже не ставим под сомнение, другое дело, что они являются отображением фетальных образов, которые под действием цензуры приобрели хоть какой-то облик.
Иначе чем мы можем объяснить тот факт, что эти описательные используются в бреде?
В полной мере этот феномен мы можем отнести и к птицам Шребера, к их нервам (птиц), которые превращаются в вибрации (гл. XV). Понятное дело, что в голове и теле Шребера не было ни быстро летающих, ни певчих птиц, ни ласточек, ни воробьев, ни ворон. Все это реальные существа животного мира, от которых было “отторгнуто идеальное однозвучие” и передано их душам (другим частям личности), “живущим” в нервах Шребера, где под нервами мы должны понимать структуру психики, а под птицами – мысли, поскольку общими свойствами, для них является полет.
Предположим большее. Возможно, что мысли относятся к продуктам жизнедеятельности, подрастающей внутри “Я” Шребера новой личности. Эта личность подкидывает сознанию Шребера свои мысли и свое видение о новой форме поведения.
Этим мы можем объяснить то, что та часть психики, которая первой сформировала мужскую форму поведения Шребера: в жестокой борьбе за лидерство, т.е. за представление себя в форме сознания, никак не “соглашалась” покончить с мужской (в пользу женской) формой поведения, т.е. уступить свои позиции более молодой.
Правда уступить свое место она оказалась готова, но только той личности, которая преследовала ту же самую мужскую форму поведения; той, которая, являясь душой в форме птицы, пока еще находилась в обособленном состоянии рядом со Шребером (являлась ближайшей к нему) и, получившей от голосов название “маленький друг”. Весной он появлялся как дятел или черный дрозд, летом – как ласточка, а зимой – воробей. Этот маленький друг, по нашему мнению, является своего рода заместителем ведущей части личности, которая также, как и ведущая, сопротивляется окончательному гендерному перевороту.
И пусть новые личности (в форме птиц) функционируют посредством вибраций, как и Шребер, они еще незрелы, а поэтому “смысла произносимых слов не понимают”, но уже “естественно восприимчивы к гармонии звуков”.
Вспомним, кого мы называем словами “птенец”, “птенчик”, “галченок”, и т.д.? Все эти слова уводят нас в раннее детство, в тот период, когда ребенок только начинает овладевать жизненными функциями. Он овладевает словами, произносит их, не понимая их значение.
То, что птицы “слышат вибрации” нервов (мыслей) Шребера, “исходящих, как от него самого, так и от его среды”, говорит нам не только о том, что они находятся в психическом аппарате Шребера, но и о том, что у них общие корни. Они берут свое начало где-то в фетальном периоде и имеют доступ к фетальным воспоминаниям, в которых “средой воспроизводящей вибрации” является тело матери. Имея общее фетальное происхождение, они и функционируют как организм матери. Поэтому, как слова птиц, так и фетальные шумы “соответствуют одинаковому звуку”, т.е. имеют постоянную звуковую картину, которую Шребер описал в форме вибраций
Дополнительно отметим, что в словосочетании “от удивления они забывают остальные фразы, которые им еще предстоит произнести”, мы видим неспособность ребенка, тем более плода овладеть звуком слов по одной простой причине – дети раннего возраста забывают, как они произносятся, а плод не в силах произносить слова. Удивление, как чувство, в данном случае относится не к ребенку, – его переживает сам Шребер. Оно связано с его удивлением тому, как в его психическом аппарате смогли появится эти самые птицы (по-нашему – новые личности) и тем фетальным воспоминаниям, которые ими были подняты, которые, “оставаясь бессознательными заставляли вибрировать его нервы”.
Выше мы говорили о феномене мелких животных, которые означают не маленького ребенка, они означают более мелкую часть личности “Я”, которая стремится развиться и занять ведущее место над всеми частями личности.
Нельзя упускать из вида еще одно обстоятельство. Птицы Шребера обитали в преддверии небес, носили девичьи фамилии и как маленькие девочки были любопытны и склонны к похоти. Их имена частично поглощались божественными лучами, но всегда оставалась часть имени, которая обозначала, что речь идет о душах птиц.
Помните, мы говорили о том, что мать передает плоду свои ощущения. Вот Вам пример того, что эти ощущения (похоть) плодом принимаются и они ему нравятся.
Говоря о похоти как о врожденном блаженстве, Шребер не только говорил нам о том, что блаженство может быть испытано до родов, но и связывал это блаженство с похотью, как будто давая нам понять, что это одно и тоже чувство, а по-разному называется только в силу возраста. Поэтому “заботясь” о похоти, которая стала для него долгой обязанностью, в момент своей регрессии в фетальный период, он “не имел в виду сексуальное желание по отношению к другим людям (женщинам) или даже половые сношения с ними”.
Под похотью Шребер не понимал сексуальное удовлетворение от женщин. Он рассматривал его как некий божественный подарок (божественное чудо), который он обязался оберегать.
Следуя за мыслью Шребера, мы тоже не видим в этом ничего сексуального, хотя оно и связанно с удовольствием. Это удовольствие относится еще и к первичному, базальному удовольствию, связанному с удовольствием от деления клетки, “эротически первичной функции”, как говорил Шандор Радо[30].
Словосочетание “преддверие небес” указывает нам на существование некоего пространства (а, может быть, детского места) и согласуется с историей о профессоре, которую рассказал Шернер.
Он говорил: “Одному профессору оперировали череп, когда ему разрезали череп, он закричал “входите!”[31]. Шернер сделал предположение, в соответствии с которым в сновидениях мы представляем свое тело в форме строения.
Но, вероятно, не только в сновидениях, но и в бессознательном наше тело помнится, как строение. О “выдолбленном” изнутри черепе Шребера мы тоже не должны забывать.
Ранее в работе “Травмы и удовольствия фетального периода” мы пришли к выводу, что в своих картинах Р. Дадд отобразил свои фетальные воспоминания, глядя на которые, мы можем прийти к выводу, что “преддверие” может для плода означать выход в иной мир, из которого следуют звуки, не принадлежащие миру плода.
Обратимся к случаю Отто из практики С. Шпильрейн[32], который разделил человека на три части, среднюю, из которых представлял червяк. В его понимании червяк имел форму жизни, представлял собой жизнь и двигался как жизнь по змеевидной траектории. Энергия ведь тоже не идет по прямой, она извивается (вспомним молнию), ища то место, где меньше сопротивлений.
С. Шпильрейн через религиозные представления связала червяка с наслаждением от запретного плода любви. Не будем забывать, что до своего рождения плод находится в стесненных условиях, которые после родов исчезают. А контрасты в ощущениях по своей природе склонны к лучшему запоминанию.
Расшифровывая словосочетания “докучливость “сотворенных чудом птиц”, “говорящих птиц”, “бывшие блаженными человеческие души”, “остатки прежних “преддверий небес””, “трупный яд”, “у него складируют”, “науськаны”, “вдолблены”, “стервец”, “будь ты проклят”, “смысла произносимых слов они не понимают”, “обладают природной восприимчивостью к созвучию”, которое “обязательно должно быть полным”, “истинные ощущения”, “растворяются в его душе”, приходишь к мысли, что речь идет о каком-то периоде жизни Шребера, когда он еще не в силах полностью познать влияние окружающего мира, “на всякий случай” складировал у себя в памяти то, что видел, слышал и ощущал. Этот период его жизни мы можем смело отнести к ранним детским воспоминаниям, когда ему или в его присутствии кому-либо другому говорились эти фразы.
Напомним, что его брат Густав был старше его на три года, а сестра Анна – на два. Именно они могли быть предметом воспитания и обучения в тот период, когда маленький Шребер, который стоял на пороге жизни, а по его выражению в “преддверии небес”, учась говорить, не понимая их смысл, повторял, услышанные фразы. К тому же, с учетом того, что отец Шребера был доктором и брал сына с собой на работу, кое-какие словосочетания он мог услышать за пределами дома, в том числе и от детей-пациентов отца. Конечно, сами по себе эти слова никогда бы не “улеглись” в память Шребера, если бы не эмоциональная форма подачи этих слов, равно, как и внешний вид детей.
Как нам кажется эмоциональный накал, сопровождавший эти слова, пугал Шребера и вызывал у него ужас, “вдалбливая” их в его голову. Либо, что скорее всего, внешний вид детей, укутанных в различные корсеты, который, как следует из Предположения У. Нидерланда[33], пришлось носить и ему.
Обратим внимание на то, что слова, которые Шребер мог слышать в детстве, “обладали природной созвучностью” с другими словами и эмоциями, которые могли повторяться в его жизни при других обстоятельствах и в более позднее время.
Описывая в гл. XVI способ своего принудительного мышления, Шребер, не осознавая того, что идентифицирует себя с говорящими птицами, пишет: “Под действием радиации мои нервы вибрируют, что соответствует определенным человеческим словам, так что их выбор не основан на моей собственной воле, а является следствием внешнего влияния на меня”.
Вот и теперь, когда Шребер регрессировал в детство, он как под гипнозом, вкладывал в уста “сотворенных чудом птиц” не только слова, услышанные в далеком детстве, но и созвучный смысл воспоминаний более позднего периода.
Придерживаясь интерпретации, сделанной Фрейдом[34], дополним ее конструкцией детских отношений, когда Шребер, будучи мальчиком, никак не мог уговорить свою сестру и ее подружек взять его в свою игру, но как это и водится в детстве, они не принимали мальчика в свою девичью компанию, но всегда о чем-то с особым чувством секретничали и хихикали, вызывая у Шребера и любопытство относительно предмета и объекта их разговоров, и раздражение, и досаду.
Предполагаем, что малолетний Шребер, видя, как прячутся от него девочки, правомерно или неправомерно приписывал себе роль объекта “шушуканья” сестры и ее подружек. Это, обогащенное эмоциями “шушуканье” девочек, их обособленность и взгляды в его сторону, вызывали у мальчика, с одной стороны, чувство негодования, а, с другой, – собственное “докучливое” и “беспокоящее” поведение, похожее на то, что он приписал птицам.
Ожившие во время заболевания воспоминания о раннем детстве, сами по себе указывают нам на его регрессию в период детской травмы, нанесенной ему девочками и к ранее состоявшейся фиксации. “Трупный яд”, которым он в своем заболевании одарил птиц, может указывать нам на его детское желание смерти сестре и ее подружкам.
Эти примеры подводят нас к мысли, что и птицы и червяк имеют, поскольку обитают в эфире наслаждения, общее происхождение, а их маленький размер должен обозначать для нас начальный этап развития человека (тем более, что по представлениям Отто червяк является составной частью человека).
Здесь, для того, чтобы, если не познать, то хотя бы предположить, природу происхождения душ, нам необходимо сделать некоторое отступление.
Представим себе некую поверхность, называемую нами психической базальной мембраной, на которой плещется океан первичного блаженства. Из этого океана, условно говоря, должен подняться столб, который мы позднее назовем энергией либидо (жизненной энергии), который и будет определять свойства психики будущей личности (организма). Но поскольку океан блаженства бескрайний, этот столб в целях снабжения энергией растущей личности, может подняться в одном месте, во-втором, а может в третьем, и даже в двадцати четырех местах одновременно, как это было у Билли Милигана.
Мы не настаиваем, но, возможно именно к этому склонялся Д. Калшед, когда писал: “Эти двойственные имаго, образуя вместе внутреннюю “структуру”, и составляют то, что я называю архетипической системой самосохранения; дело осложняется тем, что эта двойственная структура обычно появляется в “тандеме”, по выражению Джеймса Хиллмана (Hillman, 1983), – в паре с внутренним ребенком или с другим более беспомощным или уязвимым «партнером». У этого невинного «ребенка», в свою очередь, также присутствует двойной аспект”[35].
Со временем один источник энергоснабжения начинает приобретать определенные преимущества, что проявляется в форме обкрадывания других, вытеснения их, становится главным и позволяет себе использовать в своих целях всю энергию источника. Понятное дело, что остальные начинают чахнуть, претерпевают обратное развитие, либо, как указывает история самого Билли Милигана, консервируются до поры до времени, предоставляя нам возможность в будущем обзавестись внутри себя еще несколькими личностями. Эти, потерпевшие поражения структуры (недоразвитые личности) превращаются в «демонические» фигуры и представляют собой возможную причину возникновения разделенного сознания.
Но бывают ситуации, при которых основной столб энергии не может найти себе удовлетворение, начинает чахнуть, вынуждено возвращается к своему источнику. По закону сообщающихся сосудов, энергия, ушедшая из одного сосуда, перетекает в другой и оживляет ранее законсервированный. Приняв на себя новый прилив энергии, законсервированный начинает свой путь развития. Конечно следует предположить, что борьба между развитой и неразвитыми личностями (птицами, душами, чертями, человечками) за обладание развитым источником энергии никогда не прекращалась.
Поэтому Шребер как за соломинку хватался за Божий свет, где он уже существовал и функционировал на протяжении многих лет. Поэтому “снятие любого освещения, любое продление естественной темноты, означало для него огромное обострение его симптомов”.
По нашему предположению души птиц Шребера, черти, которые с ним играли, мимолетно сделанные люди, души людей и являются недоразвитыми, рудиментарными формами “личностей” – фантазиями – душевными движениями, которые “копошатся, подобно отдельным существам”[36]. В свое время, в результате их обкрадывания (вытеснения) они не смогли развиться до необходимого уровня, а поэтому не только остались на самом примитивном уровне своего развития, но еще и уродливыми.
Их уродливость, к примеру, мы можем увидеть в рисунках душевнобольных. Птицы Шребера являясь его фантазиями не так уродливы, но все же являются умственно недоразвитыми. Поэтому они “не могут понять смысла произносимых слов”, но способны изменять форму (ласточка, воробей, ворон и т.д.) и иметь некоторые отличительные свойства (быстро летать, петь). В силу своей недоразвитости они вынуждены обитать в неком пространстве (преддверии) рядом с источником наслаждения.
Следует предположить, что “маленький друг”, душа в форме птицы, которая всегда находилась рядом со Шребером (“являлась ближайшей к нему”), представляла собой наиболее развитую форму новой личности (но, все же отстающую в своем развитии) готовую в любой момент заменить личность Шребера.
Предположения психоаналитиков о том, что мелкие и маленькие существа являются символами детей, согласуются с нашими предположениями о существовании “резервной личности”, в-первую очередь, из-за их инфантильности (недоразвитости).
В этих феноменах мы можем усмотреть нечто однозвучное, являющееся единым для внутреннего и внешнего мира Шребера. Понятно, что здесь имеет место навязчивое действие в форме ретрансляции когда-то услышанных звуков.
Когда эти звуки были услышаны, остается только догадываться, но как мы считаем, учитывая их “идеальное единообразие”, ежедневную повторяемость (за эти годы до сотни тысяч раз), речь может идти о шумах организма матери, т.е. о группе фетально-звуковых воспоминаний.
К этой группе воспоминаний мы можем отнести “шушуканье” птиц еще по одной причине. Находясь в регрессивном состоянии характерного для плода, психический аппарат Шребера предоставил ему в форме воспоминаний шумы сосудов брюшной полости матери.
О том, что удивительные птицы являются частью психического аппарата Шребера, можно судить еще и по тому, что он, описывая в гл. XVI способ своего принудительного мышления, сам идентифицирует себя с говорящими птицами.
В частности, он писал: “Под действием лучей мои нервы вибрируют, что соответствует определенным человеческим словам, так что их выбор основан не на моей собственной воле, а является следствием внешнего влияния на меня. Колебания, в которые смещаются мои нервы и произносимые слова, содержат, по большей части, не самодостаточные и совершенные мысли, а только фрагменты таких, их дополнение к каким-либо рациональным чувствам к моим нервам как было установлено заданием”.
И мы считаем, что фрагменты мыслей образовались свойствами памяти, – “здесь помню – здесь не помню”.
В гл. XVIII Шребер писал: “Различные животные и насекомые, живущие в зависимости от сезона года, только случайно попали в мою окрестность, но как каждое вновь созданное существо. Например, я могу рассчитывать с полной уверенностью и поэтому предсказывать, что, если я сяду на скамейку в саду и закрою глаза или попытаюсь заснуть, тут же появляется муха, оса или шмель, или комар, чтобы помешать мне спать. Эти божественные чудеса неслучайны, они каким-то образом связаны с моей личностью. Я воссоздал их для себя”.
Допуская определенные возражения на этот счет, и что нет ничего необычного в том, что в некоторых случаях в комнате летают мухи, а осы летают на открытом воздухе и т. д., Шребер продолжал настаивать на своем, подтверждая существование таких чудес поведением своих глаз и взгляда.
Глаза у Шребера, как и у плода находились под внешним управлением. Но, если у плода они связаны со звуком, то у Шребера с лучами, которые, как у маленького ребенка постоянно хотят видеть то, что им нравится. Воздействуя на мышцы глаз, они давали им направление, куда должен упасть взор и место, где находились в этот момент только что созданные существа.
Фрейд говорил, что маленькие животные, гусеницы, насекомые имеют значение маленьких детей[37] и до момента обнаружения репродуктивных клеток, мы бы считали это толкование единственно возможным, однако, после резкого развития медицинской оптики, оно может быть дополнено еще и символом сперматозоидов. Это подтверждается еще и тем, что для того, чтобы их увидеть, следует задать правильное направление взора. Согласованная работа мышц глаз и регуляторов резкости микроскопа, предоставляет возможность увидеть «только что созданные существа».
Это предположение основано на “годах Шребера, временами омраченных многократными крушениями надежды обзавестись детьми”. Все это говорит нам о том, что Шребер не сидел сложа руки в ожидании чуда зачатия и вынашивания ребенка. Они вместе с женой предпринимали активные усилия по достижению своей цели. Поэтому мы не будем далеки от истины, если станем утверждать, что в лечебном учреждении Шреберу была предоставлена возможность заглянуть в микроскоп и увидеть там сперматозоиды. Даже взрослые люди, после увиденных в микроскопе сперматозоидов восклицают, забывая, что из одного сперматозоида никогда не получится человек: “Сколько могло быть детей!”.
Как звук для плода, так и лучи для Шребера могли спровоцировать “чудеса испуга или что-то в этом роде”. Обычным, в общем-то, рефлексам поворачивать голову и глаза в сторону откуда появился звук или свет, Шребер дал иное толкование, придав им свойства чудес. При этом ответственность, если так можно сказать, за то, что он видит, он возложил на лучи, а не на себя, хотя именно сам играя руками “на фоне белой поверхности, такой как белая дверь или печь с глазурью” не только создавал “довольно своеобразные искажения теней”, но и мог разглядеть лучи.
Особую актуальность зрительного рефлекса он связал с особенностью (транс) своего психического состояния (при игре на пианино, когда его мысли заняты ощущениями, вызванными красотой музыки). Он писал: “В этот момент внезапно мои глаза улавливают силуэт около двери или около меня. Ужасный эффект чуда заключается в том, что именно на этот объект должен падать мой взгляд”. Нечто подобное мы можем предположить и у плода, который, погруженный в состояние нарциссизма, вдруг замечает движение теней или изменение звуковой картины.
Связаны ли в сознании плода эти тени с его персоной, и не крутятся ли они вокруг него? Думаем, что, не имея больше, чем есть на самом деле информации, плод связывает ее с собой, приписывая им добрые или злые намерения.
Вот, что Шребер писал в гл. XX Мемуаров. “Я могу кратко указать на этот момент, что все, что происходит, связано со мной. После того, как Бог пришел ко мне в исключительной нервной привязанности, в определенном смысле я стал для Бога в истинном смысле единственным человеком, вокруг которого все, что происходит, должно быть связано со мной.”
Как бы подтверждая наши выше изложенные утверждения о пребывании его в фетальном состоянии и о том, что его сон нарушался воспоминаниями о женской роли, Шребер писал, что часто его сон нарушался сновидениями, ведущую роль в которых играли лучи, а роль их заключалась в охране мужских стереотипов.
Но зададимся вопросом, когда и где душевные движения становятся отдельным существом?
У нас есть свой вариант ответа, но для этого необходимо хотя-бы предположить место обитания психической структуры, которую мы определяем и понимаем, как бессознательное. Здесь мы склоняемся к мысли, что этим местом является периферическая нервная система, где рефлексы и функционируют. Поэтому в фантазиях мы можем увидеть нечто схожее с конечностями, отдельными частями конечностей (периферических органов), либо непонятной массой, в которой мы должны разглядеть систему внутренних органов.
Утверждения Шребера о том, что “в бессонные ночи он радовался чуду лучей”, потому что вместе с ними “появлялись всевозможные персонажи, серьезные и веселые, чувственные, захватывающие или ужасные”, ходившие по его комнате, наводят нас на мысль о фетальном восприятии плодом, окружающего мира. Находясь в своем детском месте, время от времени борясь с “невыносимой скукой”, будучи плодом, он наблюдал за тенями, появляющимися перед его взором, как это выглядит в картине Р. Дадда “Наблюдающий младенец”. Эти тени проникая в его “комнату” сопровождались определенными звуками и, в зависимости от его характеристик, могли вызывать чувства радости или испуга.
То, что он настаивал на том, что “ни наука, никто иной, кроме него, не знает о существовании “изображений”, еще раз подталкивает нас к мысли, что эта исключительность является ожившим остатком всемогущества плода и его “Мега-Я”. Эта исключительность и величие содержатся в его утверждениях, что “он способен оживить все свои воспоминания (жизнь, людей, животных и растений, других объектов природы) для повседневного использования”, что он “может ими управлять”, также, как когда-то мог управлять функциями организма матери.
Даже его утверждения о том, что он может позволить вспыхнуть молнии или пойти дождю, мы не может трактовать иначе, как ожившие детские воспоминания об обретенной способности владеть функцией мочеиспускания и испытанной по этому поводу огромной и светлой радости. Обнаруженная в этом же возрасте половая разница между мальчиками и девочками, стала для него не только “божественным чудом”, но и предметом ролевых игр.
Примером другого навязчиво преследующего феномена, о котором говорил Шребер, является “рисование”, выступающее у Шребера языком души (гл. XVII).
Он утверждал, что “человек несет с собой все воспоминания, которые цепляются за его память, благодаря впечатлениям, которые остаются в его нервах”, они сохраняются в форме “изображения в голове”.
Его утверждения не только справедливы по содержанию, но и подводят нас к мысли о живучести этих воспоминаний. Утверждая о внутриутробных воспоминаниях, именно это мы и имеем в виду.
Эти “фотографии” в случае Шребера, освещают лучами его “внутреннюю нервную систему, т.е. будят и актуализируют спящие воспоминания. Утверждая, что он способен оживить все свои воспоминания (жизнь, людей, животных и растений, других объектов природы) для повседневного использования, он как бы напоминает нам на то, что может управлять явлениями природы также, как когда-то мог управлять функцией организма матери.
Продолжая свои размышления, он указывал, что, когда он играл на пианино, он мог “нарисовать” себя в образе женщины, стоящей перед зеркалом в соседней комнате; или, находясь в постели, давать себе и лучам задание пережить впечатление (представить фотографии лучам), что его тело наделено женскими грудями и женскими гениталиями. Поэтому он считал рисование “в некотором смысле обратным чудом”. Подобно тому, как лучи света накладывают определенные образы, особенно в сновидениях, на его нервную систему, писал Шребер, также и он может отобразить в своем сознании те рисунки воспоминаний, которые он хотел пережить.
Этот навязчиво преследующий образ мышления, мы можем соотнести с реакцией Шребера-плода на постороннее вмешательство в его внутриутробный мир[38], против которого он категорически возражал. Плод “пережил травму”, а травма требует повторения и это повторение состоялось в форме открытия (обострения) психического рубца, указывающего на место, где эта травма была получена.
Намекая на фетальный нарцизм, он пишет: “Вряд ли человек, который не испытал все, через что я прошел, может представить, сколько отношений сделали необходимым для меня “рисование”. В бесконечных пустошах моей монотонной жизни, в духовных мучениях, которые были подготовлены для меня глупыми голосами, это часто, почти ежедневно и ежечасно, было настоящим утешением и настоящим освежением для меня. В бессонные ночи я часто радовался чуду лучей, потому что у меня тоже были всевозможные персонажи, серьезные и веселые, чувственные, захватывающие или ужасные, идущие в моей спальне или в камере; развлечения, предоставленные мне таким образом, были очень важным средством преодоления иначе невыносимой скуки”.
Эти наблюдения наводят на мысль, что Шребер-плод, сидя в “кинотеатре” способен был наблюдать за картинами внешнего мира, которые разбавляли его “бесконечные пустоши монотонной жизни” и являлись “настоящим утешением”.
Пытаясь разъяснить нам роль рисунков и намекая на свои умственные способности, Шребер писал: “Конечно, “рисование” в развитом смысле связано с довольно значительной степенью умственных усилий, поэтому оно предполагает, по меньшей мере, приемлемое качество головы и соответствующее хорошее настроение. Если эти предпосылки существуют, то получаемое таким образом удовольствие от получаемых видений, весьма велико”.
“Обратное чудо” (“рисование”) является для нас намеком на то, что и мы должны повернуть наш взгляд в обратную сторону и увидеть его прошлое, картины, рожденные от “лучей света, падающих на его нервную систему” и рождающих добрые и злые образы.
Его способность оживлять эти воспоминания и видеть “изображения”, которые со временем, смешавшись и подвергнувшись процессу сгущения, предоставили ему возможность “нарисовать себя в образе женщины, стоящей перед зеркалом”. Эта способность тем более была для него приятной и важной в момент его отхода ко сну, когда он “находясь в постели, давал себе и лучам задание вновь пережить впечатление (представить фотографии), обретения тела, наделенного женскими грудями и гениталиями (выбор пола). В этом смысле его утверждения не только справедливы по содержанию, но и по форме, поскольку подводят нас к мысли о живучести фетальных воспоминаний о далеком времени, когда он был единым целым со своей матерью.
В этой связи обращает на себя внимание навязчивость Шребера, о которой он нам неоднократно упоминал. Это представление (рисование) себя в образе женщины. Его новый образ обязательно должен был быть наделен женскими грудями и гениталиями, как будто есть женщины без женских грудей и гениталий. Это обязательное дополнение к женщине, подталкивает нас к мысли о роли и месте женской груди и женских гениталий в его воспоминаниях.
В данном случае мы предполагаем сочетание эрогенной функции кожи, что проявляется не только в желании притянуть к своей груди любимый объект, но и оказаться этим объектом. Нечто похожее мы находим в случае аутичного ребенка, сновидение которого описал Д. Мельцер. В этом сновидении ребенок, расколов свое “Я” сам “родил” себе “монстрика”.
Шребер и сам намекая нам на свой фетальный нарцизм, в качестве негатива “пустоты, монотонной жизни и духовных мучений”, читай фетальных кошмаров, “подготовленных глупыми голосами” из прошлого, предлагал другую сторону внутриутробной жизни, которая была для него “настоящим утешением и освежением”. А поскольку фетальные воспоминания были его воспоминаниями, “вряд ли человек, который не испытал все, через что он прошел, может представить” насколько важными и необходимыми для него были эти рисунки и изображения, дарующие ему нарциссическое удовлетворение.
Из истории его жизни мы знаем, что в детском возрасте Шребер отличался острым умом быстрым мышлением, отличной памятью. Но поскольку эти функции являются врожденными, нам не остается ничего другого, как предположить, что этими же способностями он мог обладать далеко до рождения. Во всяком случае, мы так понимаем его утверждения, что “рисование” связано с довольно значительной степенью умственных усилий, и предполагает, приемлемое качество головы”. А то, что эти картины были “реальны” и были предназначены только ему, только для него и для его лучей, становились временами то нечеткими, то теряли цвет, указывают нам на функцию памяти, которая то теряла, то снова находила нужные воспоминания.
Поскольку Шребер в своих воспоминаниях достаточно часто указывал на Бога, нельзя обойти толкованием присутствие в его бреде этой Фигуры, и определиться что это за символ и что он означает в переводе с “основного” языка.
В одном месте (гл. XIV) Мемуаров он пишет: “Как только Бог отошел на слишком большое расстояние, которое обычно происходит в течение полудня или даже нескольких часов, сон просто невозможен для меня”. В связи с чем у нас появились следующие мысли.
Каждый родитель знает, что маленький ребенок каким-то чутьем контролирует пребывание матери в своем окружении. И если в этот момент он спит, то сразу просыпается и начинает плакать; если играет и гулит – то тут же начинает хныкать или кричать. Иными словами, своим поведением демонстрирует одну из формул бреда Шребера; “ты отходишь от меня – я просыпаюсь и плачу”. Получается, что в этом смысле под Богом мы должны подразумевать еще и мать!?
Мы склоняемся к этой точке зрения, поскольку в гл. XV находим этому подтверждение. В частности, Шребер писал, что как только Бог отходит на чрезмерное расстояние появляется головная боль, выражающаяся в ее подергивании и отрывом части костной субстанции черепа.
В своем понимании символов “основного” языка мы не должны путаться в крайностях. Отход Бога может означать не фактический его отход, а отдаление от него самого Шребера. В совокупности с “отрывом части костной субстанции черепа” этот отход нами интерпретируется как роды, во время которых происходит отделение Бога (тела матери) от младенца и сжимание черепа плода для прохождения родовых путей.
Далее Шребер писал: “Пока я громко разговариваю в своей комнате или в саду с Богом, он понимает, что находится в контакте и под непосредственным впечатлением от жизненного выражения человека, который полностью владеет его способностями к пониманию, все вокруг меня смертельно тихо. Все остальные люди (опекуны и пациенты) внезапно, похоже, потеряют способность говорить даже одно слово. Но как только я отворачиваю свой взгляд или закрываю чудо моих глаз, или, как только я умолкаю от громкого разговора, но в то же время не занимаюсь никаким духовным занятием, другими словами, отказываюсь от мысли, сразу низшим богом (Ариманом) мускулы дыхательного действия приводятся в движение таким образом, что я вынужден, если только я не приложу к нему особого усилия, чтобы подавить его, произнести рев (“Божественный” призыв). Время от времени рев происходит с таким быстрым и частым повторением, что для меня возникает почти невыносимое состояние, и особенно ночью, лежа в постели, сдержать его становится невозможно”.
Здесь мы видим реальную связь (подвергнутую проекциям), которая имеется в отношениях межу ребенком и родителем. Пока ребенок играет в своей комнате или в саду, что контролируется родителем по звукам, он понимает, что ребенок находится рядом, он жив, здоров и с ним все в порядке. Но как только ребенок исчезает из поля зрения родителей (няни) или, как только он умолкает, тут же возникает суета (рев, “божественный призыв” матери к ребенку откликнуться). Понятно, что в этот момент все вокруг (остальные люди) затихают и теряют способность говорить хоть одно слово (смертельно тихо).
Но это не единственная, возможная интерпретация. Это всего лишь промежуточная дорожка в памяти от внутриутробной жизни к детству. Здесь мы должны (опять же) увидеть и роды. Где сразу после отделения новорожденного от тела матери в его легкие под давлением проникает воздух, легкие наполняются воздухом, расправляются и далее, как пишет Шребер: “Низшим богом (Ариманом) мускулы дыхательного действия приводятся в движение таким образом, что я вынужден произнести рев”; и ребенок издает “божественный” крик. Время от времени, когда для плода возникает почти невыносимое состояние (голод, к примеру) “рев” возникает сам собой, а сдержать его становится невозможным, “особенно ночью, лежа в постели”.
Обратим внимание на следующее.
Низший бог (Ариман) вступает в дело, т.е. приводит к действие дыхательные мускулы сразу, как мы только что предположили, после наполнения легких воздухом.
Где же тогда он должен находиться до этого момента?
С учетом того, что он никак не должен пропустить момент наполнения легких воздухом, он должен находиться рядом с плодом, а, значит, в теле матери, в нем самом. Из этого следует вывод, что он является продуктом отношений внешнего мира и плода. Он должен быть порождением внешнего мира, который не подчиняется его желаниям. Напротив, перед ним плод пасует и выполняет все его требования от испражнения по требованию, до первого вздоха.
Главным аргументом превращения Шребера в женщину, явились его утверждения об изменении строения его тела (впрочем, как и у Александра Васильевича) и о нервах сладострастия, разлившихся у него по женскому типу.
В гл. XXI он утверждал, исходя из своих наблюдений, что нервы сладострастия у женщин расположены по всему телу, в то время, как у мужчин только в области половых органов и в непосредственной близости от них, он обнаружил, что его тело в результате божественных чудес, в части расположения нервов сладострастия, идентично женскому. Когда он оказывал небольшое давление рукой в любом месте своего тела, то чувствовал у себя под поверхностью кожи структуры нитевидной или мельчайшей природы; их особенно много было на груди, с той лишь особенностью, что иногда узкие утолщения становились заметными на их концах. При надавливании на эти структуры, он ощущал одно из женских приятных ощущений похоти, особенно когда думал о чем-то женственном. Он считал, что именно эти структуры придают женской коже своеобразную мягкость. Ее то он и заметил на своем теле.
Но здесь возникает ряд вопросов. А свое ли тело он описывал? Не является ли его новое женское тело частью воспоминаний “уроков” матери? Не является ли его новое тело, телом его матери периода беременности им самим? Где все эти воспоминания о женском (материнском) теле находились ранее? Кто выступил в роли почтальона, вернувшего ему его же воспоминания?
Попробуем ответить на эти вопросы предположением о том, что это сделала другая, новая часть его личности. Подозрения пали на нее потому, что только она была в курсе фетальной жизни Шребера, только она имела доступ к фетальным воспоминаниям, только она получала знания от того же “учителя”, что и Шребер.
Шребер утверждал, что не делал поглаживаний своего тела исходя только из похоти, но вынужден был это делать для того, чтобы заснуть или избавиться от невыносимой боли. Мы это понимаем так, что он пытался, как маленький ребенок, путем раздражения оральной и кожной эротики, успокоить свое тело, придать ему новые, но уже приятные ощущения, способствующие его отходу ко сну.
Здесь мы видим отголосок еще более ранних событий. Но для того, чтобы добраться до них, нам необходимо вспомнить свое состояние после приятного во всех отношениях обеда.
После него мы испытываем чувство удовлетворения со всеми причитающимися ему красками. А, если еще предоставляется возможность уединиться и расслабиться (секс не исключается), то мы испытаем все (можно сказать фетальные) наслаждения.
Мы их назвали фетальными не случайно. Предполагаем, что после обеда матери в кровь плода попадает новая порция питательных веществ, которые вызывают у него те же самые ощущения удовольствия, что и у матери. Вернее, они присоединяются к удовольствиям плода, которые ранее поступили к нему от организма матери во время ее “уроков”.
А теперь вернемся к фетальному периоду развития плода и предположим, что в этот период он испытывал блаженство, которое позднее назвал похотью. Его мир, кроме физического и психического удовольствия стал наполняться приятными для него звуками переливов, которые мы, став взрослыми, пытаемся утихомирить – звуки, работающего кишечника.
Другую аналогию проведем с тем, что маленьких детей, которые никак не могут заснуть, родители берут на руки и начинают качать, напевая какую-нибудь колыбельную. Как правило звуки колыбельной не представляют собой сложную музыкальную композицию. Они просты, незамысловаты и монотонны. Уходящее в сонное состояние сознание ребенка, улавливает из этой музыки только отдельные звуки, которые уже не являются стройным музыкальным произведением, но относятся к его теме. И тогда можно сказать словами Шребера, что эти звуки и фразы смещаются в его психический аппарат (нервы) в форме “не самодостаточных и совершенных мыслей, а только фрагментами таковых”. Можно сказать, что колыбельная для засыпающего ребенка идентична тем звукам и обрывкам фраз, которые нашептывали Шреберу его птицы.
Эти звуки и вибрации тела от покачивания в совокупности соответствовали определенным человеческим словам, но их выбор, как и выбор фраз птицами, не был основан на собственной воле ребенка, а являлись следствием внешнего гипнотического воздействия, целью которого являлось выполнение задания по усыплению ребенка.
Применяемая Шребером формулировка “установлено заданием”, так же указывает нам на борьбу ребенка с чужой волей за право бодрствовать, в то время как его пытаются усыпить.
В отношении характеристик собственной женственности Шребер отметил, что она имеет определенную периодичность. Когда нитевидные женские образования перемещаются немного внутрь, его груди уменьшаются и становятся несколько сплюснутыми, когда они появляются – грудь увеличивается. Поскольку они являются носителями ощущения удовольствия, они имеют и божественное происхождение; они являются остатками нервов Бога, а перейдя в его тело не потеряли свои врожденные свойства и связь с Богом. Поэтому, когда Бог по какой-либо нужде хотел от Шребера отойти, то под влиянием лучей вынужден был снова вернуться.
Происходило это примерно так же, как и в ситуации с засыпающим ребенком. Когда родители, думая, что ребенок заснул, пытаются отойти от его кроватки, но пространственное чувство ребенка указывает ему на удаление защищающего и охраняющего сон объекта и тогда посредством своего плача ребенок не дает им это сделать – они вынуждены вернуться к кроватке. Из этого можно сделать предположение, что эти нитевидные образования, возможно являются прообразами комочков Биша, но сместились в сознании Шребера с щек на грудь. И, вообще, создается впечатление, что под всеми этими женскими образованиями мы должны подразумевать тело младенца, которое реагирует на материнские (в понимании Шребера – женские) прикосновения.
Не будем забывать, что при подходе, матери ребенок тянет навстречу ей не одну, а две руки. Было бы их четыре, он тянул бы навстречу ей все четыре. Возможно, что слова Шребера “во время Его подхода моя грудь увеличивается и создает впечатление довольно полной женской груди”, должны нами пониматься в смысле того, что при подходе родителей к ребенку, энергией наполняются не только его руки, но и все тело.
Шребер несколько десятилетий назад покинул обитель детства. Покинув ее и забросив игрушки, он оставил на месте очередной фиксации в своем психическом аппарате (бессознательном) воспоминания о том периоде младенчества, богатого любовью, нежностью, беззаботностью и удовольствием. Только теперь, регрессировав до этой точки фиксации, он снова обнаружил воспоминания об этом периоде: его обуяли эти младенческие ощущения, и он вдруг понял, что потеряло человечество. Эти младенческие ощущения он конвертировал в женские и с этого момента посчитал себя обязанным заботиться об этих женских нервах и чувствах.
Для тех, кто, прочитав Мемуары, заподозрит у Шребера элементы сексуальной распущенностью, он специально сделал оговорку, что: “Будет мало людей, которые выросли на таких строгих моральных принципах, которые у меня есть, и кто на протяжении всей своей жизни и особенно в сексуальных отношениях налагал сдержанность, соразмерную этим принципам. Поэтому я никогда не позволю сексуальной похоти превалировать в общении с другими людьми. <…> Заботясь о похоти, которая стала для меня долгой обязанностью, я не имею в виду сексуальное желание по отношению к другим людям (женщинам) или даже половые сношения с ними”.
Особое место в представлениях Шребера занимают мысли о его бессмертии.
Впервые с мыслями о своем бессмертии человек сталкивается в раннем детстве. Но мы должны согласиться с тем, что эти мысли не могут являться следствием счастливого детства, или, напротив, несчастного. Мысли о бессмертии – не производная детского периода, из которого вытекает, что можно жить вечно. Они являются следами еще более раннего периода (внутриутробного, возможно, эмбрионального, возможно даже, доэмбрионального), в котором время отсутствует как понятие.
Поскольку период бессмертия Шребера приходится на время, когда он “жил без важнейших внутренних органов, имея серьезные разрушения костной системы”, мы можем отнести это его заявление к периоду внутриутробного развития.
Вспомним, что, кроме других органов, у Шребера отсутствовали легкие, а отсутствие легких является символом удушения, а “за фантазиями об удушения обычно скрывается фантазия о рождении” (Федерн)[39].
Другим примером регрессии Шребера до детского периода, можно отнести его дополнения, (сделанные с октября 1900 года по июнь 1901 года), из которых следует, что во время еды он “чудесами” пачкал (рот, руки, скатерть и салфетки, возможно, даже вытирал рот шторами). Особенно часто это происходило, как утверждал Шребер, при посещении его женой и сестрой, делавших ему замечания.
Когда в сновидениях мы встречаем упоминания об отсутствии возможности подать голос, когда встречаем упоминания об обездвиженности, либо скованности, мы должны подумать о возможности оживления фетальных воспоминаний. Даже, если в реальной жизни нам пытаются описать ситуацию словами “онемел”, “парализовало”, “сковало” и т.д., мы должны считать себя вправе предположить фетальную природу этих ощущений.
Из Мемуаров следует, что Шребер никогда не признавал у себя галлюцинаций и каких-либо иных психических расстройств. Имея их в виду, он писал: “Насколько я знаю, галлюцинациями понимаются нервные стимулы, в силу которых человек, подвергающийся воздействию одного и того же состояния и имеющий болезненное состояние нервов, имеет впечатления от событий, которые иначе происходят во внешнем мире и в остальном доступны для лицевых и слуховых ощущений, которых на самом деле нет. Согласно тому, что я читал об этом, наука, отрицает существование реального фона для всех галлюцинаций. Это, на мой взгляд, явно неверно, по крайней мере, в такой общности. Хотя я ни в коем случае не сомневаюсь, что во многих, если не в большинстве случаев, объекты и события, предположительно воспринимаемые в галлюцинациях, присутствуют только в воображении самих галлюцинаций. Но очень значительные оговорки должны выступать против такой, я бы сказал, рационалистической или чисто материалистической концепции в тех случаях, когда это происходит с голосами “сверхъестественного происхождения”.
Проясняя (Гл. VI) свои представления на этот счет, он утверждал, что: “Не готов признать существование патологически возбужденной нервной системы в качестве предпосылки для возникновения всех таких явлений. Человек со здоровыми нервами, – писал он, – просто противоположен тому, кто в результате своего патологического состояния нервов получает сверхъестественные впечатления, он как бы мысленно слепой. Поэтому он больше не сможет убедить провидца в нереальности своих видений, точно так же, как физически незрячий человек позволяет себе слепому, убедить, что нет цветов, синий не синий, красный – не красный, и так далее”.
Если мы исходим из того, что во время регрессии Шребер оказывается в далеком фетальном прошлом, то и голоса, которые он слышал мы должны отнести к голосам далекого прошлого. Их тихий звук и обрывки фраз напоминают нам реальный разговор, происходящий на большом расстоянии или через препятствие, которым может стать водная среда. То, что голоса были беспрерывны и сопровождали Шребера “во всех местах и при каждой возможности”, представляли собой шипение, которое он сравнивал со звуком песка, падающего в песочных часах, наиболее близко подводят нас к мысли сделать аналогию со звуком движущейся по сосудам крови. Да и само сердце издает те же самые звуки. Этот шум сопровождает плод до самого его рождения, он независим ни от состояния плода, ни от его желаний – он автономен. Точно такую же автономность имели и голоса Шребера. Почти семь лет, за исключением того времени, когда он спал, не было ни минуты, когда бы он не слышал голосов, эти звуки продолжали звучать, даже тогда, когда он разговаривал с другими людьми.
Кто из ныне живущих не складывал фразы и мелодию из монотонного звука? А композиторы и поэты, находящиеся в особом состоянии творчества, разве они не берут мелодичность своих произведений из внешних шумов? Желающий может обратиться к работе Владимира Смирнова, раскрывшего перед нами роль фрикционных ритмов окружающих звуков, в формировании поэзии.
Можем ли мы исходить из того, что голоса Шребера не реальны, а являются его выдумкой, если другие люди, в частности, поэты, точно так же, выражая свое внутреннее состояние, складывают свои фразы, завораживающие своим звучанием и эмоциональностью и нас, читателей? В каждом из нас существуют далекие от сознания воспоминания, которые под влиянием произведений искусства окунают нас в некое состояние блаженства, заставляют плыть по волнам бессознательного, не показывая, однако, нашему сознанию природу своего происхождения. Поэт, в зависимости от своего состояния может так построить свои голоса, что мы, восприняв их, вынуждены будем засмеяться или загрустить, опустить руки или почувствовать прилив сил.
Вот и Шребер, находившийся в особом состоянии, выстраивал свои шумы в особый ряд, из которого могли раздаваться приятные и неприятные ему голоса.
Он писал, что слова проклятий слышатся им только при волнении и появляются в то время, когда приходит время для сна.
Мы все знаем, что во время волнения мы способны недослышать или слышать то, что нам не говорилось, а при особом волнении теряем даже способность соображать. С. Шпильрейн писала: “Любая психологическая реакция обладает тенденцией к распаду “Я” вплоть до дофилогенетических рядов” [40]. У Шребера мы находим нечто аналогичное. Он писал: “В этот момент и до завершения этих фраз происходит автоматическая задержка моих нервов”. При этом во время восстановления “Я” мы способны использовать и тот “дофилогенетический” материал, который долгие годы прятало от нас наше подсознание.
Разве фраза “сошел от горя с ума” не является подтверждением возможности распада “Я” под действием эмоций? И где в таком случае должны находиться эти “осколки”, если не на дне бессознательного? А дно бессознательного, что из себя представляет, если не слой фетальных переживаний?
Обратимся к тому, что писала о голосах Рене: “Резкие крики пронзали мою голову. Их внезапность заставляла меня порой подпрыгивать. И все же я слышала их не так, как настоящие крики реальных людей. Это были крики, которые заставляли меня тут же закрывать уши. Я слышала их справа от себя. Я хорошо отличала их, и не слышала – я их воспринимала где-то внутри себя. Это состояние приносило мне невероятные страдания”[41].
Если мы обратимся к “видениям”, в частности к видениям “Надзирателя из Бель Эр”, который “пришел” за Рене и хотел ее забрать, то вдруг выяснится, что никакого “Надзирателя” она не видела, – это было только ощущение, что ей угрожает неотвратимая опасность.
Вспомним, что говорил Отто о своем сновидении в двухлетнем возрасте. “Ему часто снилось, что сзади на него нападает пожилая женщина” <…> “Она хотела вырвать его у матери”. <…> “Он хотел закричать и не мог, хотел убежать, а ноги не слушались его”[42].
Хотел закричать, убежать, но не мог, когда это еще могло быть, если не в фетальном периоде?
В каждом сновидении мы можем найти фетальные картины, в которых записаны “уроки матери”, а поэтому все мы охотно отходим ко сну, во время которого у нас появляется возможность “побыть с мамой”, заглянуть в “конспект” и сверить дневной результат своей деятельности с материнским “проектом”. Так сформирована психология вида.
Слова проклятий, которые слышал Шребер во время отхода ко сну, чьи это слова, если не мысли матери? Возможно, поэтому, чтобы не слышать “на языке души” слова матери, Шребер, узнавший в фетальном состоянии о ней “всю правду”, предпочел потерять не только сон.
Но, как говорят “нет худа без добра”, он научился с этим бороться, тем, что “не прикладывал ни малейших усилий для того, чтобы разобраться в них, а напротив, искал способ их проигнорировать”. Его “с детства нервный характер”, ставший родимым пятном этой борьбы, “совершенствовался” и дело закончилось развитием его нервного заболевания.
Всю свою жизнь он каждый раз “слыша отдельные слова, невольно вспоминал о себе”, а это отнимало от полезных целей психическую энергию, предлагая ему “непроизвольные размышления” и пережевывание “воспоминаний”. Борьба с этими воспоминаниями привела к гиперкомпенсации на профессиональной стезе и позволила ему достичь высокого социального положения. Но как только он потерял профессию, эта борьба снова обострилась и теперь он, чтобы не слышать голоса, должен занять свою голову: он начал считать, что давало ему возможность отдохнуть от “неразумного мышления”. Голоса в этом случае хоть и продолжали говорить, но уже теряли свою навязчивость. В случае же, если “внутренние голоса замолкали”, то им на смену приходили “другие слова из горла птиц” и звучали они уже снаружи. Их голоса пытались его успокоить и поддержать: “Не стыдитесь” (перед вашей женой) и тому подобное”.
Из Мемуаров нам стало известно, что накануне второго заболевания Шребер успешно справился с возникшими на новой должности трудностями. Но, что тогда обозначают его слова о “необходимой репутации у коллег и юристов”? Разве не предполагают они наличие другого лица, претендовавшего на этот же пост? Мы вправе предположить, что у этого лица была своя “группа поддержки”, ожидавшая, вероятно и свое продвижение по вертикали. Не забудем, что против первой группы и ее кандидата выступала вторая со своим лидером и со своими ожиданиями продвижения по служебной лестнице. Возможно, были еще группы, но нам хватит и этих. Обратимся к Мемуарам и увидим, что так и не выбрав ничью сторону, Шребер обнаружил, что “в результате увеличения душевной похоти” (что нами интерпретируется как увеличенный интерес к работе, за чем мы предполагаем и работу в ночное время, что привело к потере сна), ему, “часто повторяемой фразой, было объявлено: “У нас сформированы две партии”, “Знания и способности вообще не теряются, а сон должен восстановиться”. Сначала, как мы только предполагаем, может случиться потеря интереса к тревожной похоти, а потом в течении 2 ½ лет, внутренняя похоть, уже преображенная и утонченная человеческим воображением, принесет больше пользы, чем все внешнее зло мира”.
Лишившись возможности увидеть свое лицо во главе учреждения, члены “партий” оказались во фрустрирующей ситуации, выход из которой был возможен только путем “загрузки” репутации “пришельца” слухами и домыслами, “умерщвляя” ими его профессиональные преимущества. Этот “птичий базар” не мог пройти мимо сознания Шребера, а поэтому должен был отравлять ему жизнь, отнимая у него еще больше психической энергии.
А теперь заменим лучи звуком, поскольку он тоже является продуктом вибрации и сам вызывает вибрации и увидим, что информация от обеих “партий” нашептывалась Шреберу со всех сторон, собираясь из ниток в поток, забивающий его голову.
Конечно, Шребер мог бы прекратить эту (предполагаемую нами) междоусобицу, но он этого не делал, потому что ему требовалось заработать “необходимую репутацию”, а для этого требовалось “определиться на местности”, определиться кто есть, кто, т.е. собрать информацию. Помните выражение, “у меня от полученной информации, голова идет кругом”? Это про Шребера, вступившего в новую должность. Дневная и ночная работа Шребера лишила его удовольствия сна и тогда он, что называется стал “клевать носом” на работе. Глаза сами закрывались и это закрытие он назвал “чудом закрытия глаз”.
Здесь самое время обратить внимание читателя на частый прием Шребером наркотиков. Возможно это является наследством, оставленным от первого заболевания. Вспомним, что происходит с глазами человека, принявшего наркотики. Его глаза закрываются сами, как бы он не пытался с этим бороться.
Предположим, что он и имел возможность прилечь в кабинете на диван, закрыть глаза и расслабиться – отдохнуть 10 – 15 мин. Но как только он “добровольно закрывал глаза”, у него начиналась психическая работа сновидения по переработке, полученной за день информации. Все начинало крутиться по новой, но уже с учетом работы механизмов сновидения, что вылилось в его запись: “Эти лучи становятся видимыми только моему разуму, когда мои глаза закрыты … они отражаются в форме, данной моей внутренней нервной системе, как нитки, обволакивающие мою голову … нити, втянутые мне в голову – в то же время носители голосов, – затем описывают в моей голове круговое движение, которое я могу наиболее легко сравнить, как будто моя голова должна быть выдолблена изнутри шлифовальным сверлом. С этим могут быть связаны весьма неприятные ощущения, к которым я уже привык. Это ощущение боли происходят в довольно регулярном чередовании с состояниями похоти. Гораздо более раздражающими для меня являются ревущие состояния, возникающие из-за действия чудес против меня в форме рева дикого животного. Этот рев очень неприятный, в некотором смысле, также болезненный, повторяется и вызывает вибрацию головы”.
Не будем забывать, что эти трудности на работе сами по себе не могли вызвать переутомление Шребера. Они явились последним каскадом травмирующей ситуации.
А когда началась эта ситуация? Попытаемся обратить свое внимание на слова Шребера о том, что “ощущение боли происходит в довольно регулярном чередовании с состояниями похоти”. А какая связь может быть между этими двумя ощущениями?
Возможно, кто-то, поменяв их местами, найдет ее в природе наркомании, но мы видим в этом проявление фетального присутствия во время родительских сексуальных отношений. Где плоду достаются неприятные, позднее он узнает в них болезненные ощущения, а матери – удовольствие, которым, впрочем, она делилась и с ним[43].
О фетальном происхождении нитей и лучей нам говорят: “обволакивающие голову носители голосов – нити”, закрытые “чудом” и “добровольно” глаза; лучи, доступные только разуму; выдолбленная изнутри шлифовальным сверлом голова, где под головой мы понимаем сам плод, а под выдолбленным местом – детское место; один или несколько горизонтов, откуда поступает к плоду информация; круговые движения, в которых мы видим движения самого плода; весьма неприятные ощущения, к которым плод уже привык; связь и чередования ощущений боли с состояниями похоти; очень неприятный, в некотором смысле, также болезненный рев дикого животного,(возможно плачь матери) вызывающий вибрацию головы (тела плода); громкие разговоры; смену настроения матери, принявшейся играть на фортепиано.
Добавим еще, что нити, о которых писал Шребер, явно указывают нам на строение пуповины, которая так же закручивается, исчезает из поля зрения плода и появляется вновь. Если действительно в этот момент беременная мать Шребера была в особом эмоциональном состоянии, а у беременных смена настроения – обычное дело, то, хотела она этого или не хотела, но (“обучение жизни плода” – свойство вида), эти психические реакции в форме химических веществ, попадали и в кровь плода, вызывая и у него точно такие же эмоциональные реакции. Эти реакции мы можем проследить в его добавлениях, относящихся к лицевым галлюцинациям.
Он считал, что радиационный урон исходил “от солнца или, возможно, из многих других отдаленных тел”.
В этом мы видим светлое “окно” детского места, либо внутренний свет организма матери. Указывая нам, что свет приходит к нему не по прямой линии, а в виде петли, параболы, или спирали (игра света на пуповине, сосуды которой располагаются на ней в форме спирали, лианы, тянущейся по стволу дерева), а поэтому “нити, выступающие в качестве носителей голосов, хотя, по-видимому, по крайней мере частично, исходят от солнца, обычно происходят не из того направления, где солнце действительно стоит в небе, а с более или менее противоположного направления” (с плаценты, в его случае, возможно прикрепленной на задней стенке матки, напротив “светового окна”). Световые пятна, как правило, возникали одновременно со слуховыми впечатлениями, и Шребер – плод воспринимал их, как крики о помощи. Эти крики о помощи касались только его, а не других людей. Возможно, это были его собственные крики о помощи.
Если мы вспомним об его желании заполучить цианистый калий, и его “заболевание чумой”, перед нами еще раз встанет картина его более ранней борьбы против фетального “умерщвления”.
Ранее мы сделали предположение, что в третьей главе Мемуаров имелись описания детства Шребера.
Однако, за реальными голосами, которые не имели свойств причинять боли или другого урона, но способствовавшими увеличению его душевной похоти, голосами, имевшими “другую часть звука и особенно темпа, с которым они говорили”, мы угадываем разговор ухаживающего лица с маленьким ребенком и усматриваем удовольствие, которое ребенок в данный момент чувствовал.
Рассуждения Шребера относительно душ, “которые вместо того, чтобы быть включенными в Бога, как мировая судьба душ умерших людей и, следовательно, только с постепенной утратой определенных личных воспоминаний божественный разум, поскольку отдельные души, так сказать, трепетали без какой-либо связи с Богом”, наводят нас на мысль о природе появления этих душ.
Складывается впечатление, что эти “трепещущиеся” души, на самом деле являются другими членами семьи Шребера, которые вели свои разговоры в то время, когда не было Шребера-отца, т.е. без какой-либо связи с ним. А невольный слушатель этих разговоров застрял в лабиринтах матки и “преддверии небес”, приписывая им свой еще неразвитый (потерянный) интеллект, а вместе с ним и бездумие, никак не мог понять темы, о которой они говорили.
Эти разговоры, оставшись в памяти Шребера, оторвались от их носителей, но сохранили прежний человеческий эквивалент, который приобрел форму голосов. Существование этих глосов объясняется “беспорядочной организацией отношений между Богом (отцом) и Шребером, нарушившей всякий до того устроенный мировой порядок. Под этим мировым порядком мы понимаем порядок, существовавший в системе “Мега-Я”.
Система фетального нарциссического удовольствия в результате родов, оказалась разрушена, а это разрушение “не было предусмотрено мировым порядком”, поэтому и возник тот беспорядок, борьбу с которым начал Шребер после своей регрессии.
Размеренная жизнь дома Шребера, спокойные разговоры “индивидуальных душ”, возможно, только слитых друг с другом на одном или нескольких нервах, т.е. на одной или нескольких темах, окружавших его беременную мать, успокаивали Шребера и возвращали ему состояние внутриутробного удовольствия, душевной похоти, божественного блаженства, того состояния, которое она передавала своему плоду.
Присутствие этих душ исключало присутствие Бога (отца Шребера), освобождало пространство для света, который проникал в детсткое место и превращался в розовые лучи, которые создавали розовый мир плода. Лучи не могли сами говорить, поскольку это только свет, но они могли сопровождать своим излучением разговоры “проверенных душ” и “говорящих птиц”. Поэтому Шребер писал, что у него “никогда не было прямого контакта с божественными лучами или нервами, все происходило через посредников (“проверенные души”, “говорящие птицы”).
Нидерланд У.[44] обращает наше внимание на некие отношения между Шребером, Богом и отцом, где общим для них признаком считал гениталии. Отец был Богом для мальчика-Шребера, мучившим Шребера и формируя его личность, “да и гениталии Бога представляли собою гениталии Шребера”. Эта тема гениталий склонила У. Нидерланда приписывать особую их роль в формировании гомосексуальности Шребера, тем более, что в бреде Шребера появились “маленькие человечки”. Он считал, что “маленьких человечков” следует рассматривать представителями гомосексуальных объектов, сформированных по подобию тела отца, и которые “под воздействием чудес” появляются в сотнях анатомических иллюстраций под видом нарисованных человечков.
Но играли ли на самом деле их гениталии ту роль, которая стала отправной точкой для понимания ими случая Шребера и не было ли иных оснований для появления в бреде Шребера маленьких человечков?
Если мы говорим о регрессии психики Шребера до возраста плода, вправе ли мы утверждать, что на этом этапе роль гениталий и сексуальность играют ту же самую роль, что и в жизни взрослого человека? Возможно, что ни гениталии, ни сексуальный интерес не являются ведущими магнетическими и завораживающими силами в построении бреда.
Неожиданную поддержку своим мыслям мы находим в детских сказках “Теремок” и “Варежка”, где изложены фетальные воспоминания. В этих сказках зверюшки, сначала мелкие, а потом и крупные, появляясь последовательно в одном месте один за другим, мешали уже “заселившемуся первым” получать удовольствие от его нарциссического сожительства с воспоминаниями. И если на место “заселившегося первым” мы поставим Шребера-плод, то он и раскороет нам цель “иных” подселений.
Их цель, как писал Шребер: “Заключалась в том, чтобы сделать для меня невозможным ни сидение, ни лежание. Да и вообще меня отказывались терпеть в любом положении и при любых занятиях: когда я шёл, тогда меня принуждали лечь, а когда я ложился – меня опять сгоняли с постели. Казалось, что лучи не понимают, что человек действительно должен где-нибудь существовать… я стал теперь человеком, неудобным для лучей, независимо от того, в каком положении я находился или чем конкретно занимался”.
В терминах “маленькие человечки”, “наспех сделанные люди”, мы не должны видеть никакого сексуального подтекста, в том смысле, который некоторым из них придают исследователи, поскольку и “жители леса” – герои сказок, являлись бесполыми. Шребер сам поставил точку в их роли в его жизни – они (“маленькие человечки”, “наспех сделанные люди”), сгоняя его то с одного места, то с другого, просто беспокоили его и мешали ему получать удовольствие.
Подозревая “жителей леса” в том, что их каждый раз иной облик, есть не что иное, как переодевание одного и того же объекта с присвоением себе его свойств и способностей, как в сказке “Волк и семеро козлят”, которое должно обозначать для нас рост напряжения и неудовольства его беспокойством, либо освобождение их от сгущения, с формированием у каждого из них собственного облика.
Нечто подобное каждый из нас переживал и в реальной жизни, когда после череды терпений, предупреждений, разъяснений, пояснений и так далее и тому подобное, мы превращаемся в зверя, ломая своим поведением тот теремок межличностных отношений, который ранее с таким трудом был выстроен.
Говоря словами Шребера: “Появлялась “новая личность”, которая против желания издавала рев и вынуждала говорить ужасные вещи”. И в этом контексте “чудо мычания” является проявление внутреннего недовольства, которое плод испытывал каждый раз, когда кто-то из внешнего мира пытался вмешаться в размеренный порядок его внутриутробных переживаний, чем отвлекал от переживаний удовольствия[45], но не сексуального, тем более, гомосексуального удовольствия, а фетального, нарциссического.
А теперь совершенно по-иному звучат из фетального прошлого слова Шребера “Бог, который при нормальных обстоятельствах имел общение только с душами и трупами совершенно недооценивал потребности, связанные с существованием живого тела, как души или при определенных обстоятельствах рассматривать как труп, думает, что им нужно навязывать, постоянное наслаждение или постоянное мышление…”.
Те, кто пытался проникнуть в теремок совершенно недооценивали потребности, связанные с существованием еще нерожденного живого существа, как души, они рассматривали его как труп, не веря в его способности жить, мыслить и чувствовать, они думали, что “вправе навязывать, постоянное наслаждение, постоянное мышление или постоянное устрашение”.
Чем закончилась история со вселением медведя в теремок, нам всем известно. Вызывает удивление то, что, обратив внимание на разрушение самого теремка, мы не обращали внимание на “трагедию” тех его “жителей”, которые уже там находились. А Шребер в словах: “Да и что может быть определённее для человека, чем то, что он воспринимает и переживает посредством своего собственного тела?”, испытав все на себе, пытается обратить наше внимание на реальность, обнаруженных им фетальных переживаний, прорвавшихся в его сознание в форме травматичных воспоминаний.
Но в фетальных воспоминаниях Шребера есть место и удовольствиям, в котором он плавал, пока его не начинали беспокоить. Он писал: “С другой стороны, для меня каждый день в неоднократном повторении возникают периоды, когда я плаваю в сладострастии. По всему моему телу течет, так сказать, неописуемое, женское чувственное восприятие, соответствующее благополучию. … Я иногда наслаждаюсь наивысшей похотью снизу до шеи, в то время как моя голова может быть в довольно плохом состоянии”.
А теперь посмотрим на эту ситуацию глазами Шребера-плода изнутри. В одном из абзацев (глава XVIII) Мемуаров Шребер жаловался на чудеса, которые заставляли его сменить направление взора и наблюдать за небольшими объектами. “Каждый раз, когда появляется какое-либо насекомое… одновременно осуществляется чудо, воздействующее на мои глаза и направляющее взор в определённую сторону. Это происходило так же, как и в том случае, когда “лесные жители”, заметив теремок, привлекали к себе внимание его жителей. Лучи, а в лучах, в данном случае, мы подразумеваем внимание плода, постоянно желали видеть то, что им нравится… Происходило это против воли Шребера, посредством соответствующих воздействий на мышцы глаз. Лучи выбирали такое направление, которое заставляло его взор падать на только что созданные (появившиеся) вещи (объекты), а в других случаях – на женские существа. А в одном из примечаний Шребер добавлял, что “мой взор посредством чуда (поворота глаз) сразу направляется на искомый предмет”.
А теперь, в поиске объяснений “чуда поворота глаз”, представим себе ситуацию, когда мы, уйдя в свои мысли, занимаемся своими делами. Вдруг где-то происходит нечто выделяющееся из ряда событий, ровно протекающей жизни, резкий стук или вспышка света, к примеру. Куда мы направим свой взгляд и свое внимание. О чудо! Наш взгляд сразу найдет искомый источник нашего беспокойства.
Как бы подтверждая наши догадки о связи плодной жизни Шребера (о чем мы можем судить по мании величия) и сказок, Шребер писал: “Из этого следует, что почти во всем, что происходит со мной, после того, как чудеса в значительной степени потеряли свой прежний ужасный эффект, Бог кажется мне по большей части смешным или ребяческим”. Направляя к теремку “лесных жителей”, Бог не замечал того, что своими “ребяческими играми” беспокоил плод, принуждая его к самообороне, что, как писал Шребер: “Следовало из его поведения”.
Самооборона плода, проявлялась в ответной реакции, которую Шребер назвал издевательством над Богом. При этом право издеваться над Богом, было исключительно его правом, и оно не было предоставлено другим людям. “Для других людей Бог оставался всемогущим Создателем неба и земли, причиной всего сущего и спасением их будущего”.
В своих Мемуарах Шребер указывал, что страдания и лишения, которые он перенес в течении болезни по вине Бога, должны быть компенсированы удовлетворением. Говоря о страданиях и лишениях, Шребер описывал их следующим образом: “В настоящий момент моя жизнь по-прежнему остается любопытной смесью чувственных состояний, болевых ощущений и других мерзостей, к которым я отношусь, помимо моего собственного рева, глупого шума, который часто сопровождается рядом со мной. Любое слово, сказанное мне в любом разговоре, все еще связано с шалостью против моей головы; ощущение боли, создаваемой им, может в определенное время, то есть когда лучи отступили слишком далеко, достигают довольно высокой степени, и поэтому, особенно после предыдущих более или менее бессонных ночей, есть значительное напряжение, особенно если чудеса вызывали боль”.
Открывающиеся перспективы получения компенсации, Шребер обнаружил в собственном теле, наблюдая за тем, как ощущения боли отступают, а состояния удовольствия или блаженства преобладают, возрастает жажда души, и поэтому ощущение удовольствия становится все более преобладающим впечатлением, которое получают лучи, когда они входят в его тело.
Все чаще лучи больше не достигают соответствующих частей его тела, потому что преобладает ощущение удовольствия, производимого в других частях тела; яд, предназначенный для его глаз или зубов, теперь обезвреживается и сбрасывается где-то, например, на грудь или на руки, или в любое другое место его тела. Он даже решил предсказать свое не столь отдаленное будущее – “он будет наслаждаться тем блаженством, которое другие люди получат только после смерти”.
Сам собой встает вопрос, что это за удовлетворение и почему это удовлетворение является перспективой? Шребер дает нам ответ и на этот вопрос. “То, что это блаженство, является приятным наслаждением, и для того, чтобы полностью его развить, требуется быть или желать быть женщиной”. При этом он сразу оговаривается: “Естественно, эта идея сама по себе не соответствует моему вкусу”.
Таким образом получается, что до сего момента его либидо и связанное с ним наслаждение, находились на “мужской ветке” личности Шребера. Мы даже можем сделать предположение о том, к какому моменту либидо Шребера стало наполнять женскую линию психики Шребера.
Исходя из записей Истории болезни, этот процесс закончился к 1 марта 1894 года. Именно тогда он впервые заявил, что он молодая девушка и боится возможных безнравственных покушений.
Но не будем упускать еще один очень важный момент. Из записей Истории болезни от 15 марта следует, что он обещал смотрителю 500 марок, если тот раздобудет для него гроб, 16 апреля находясь в ванной делает попытку самоубийства, 21 апреля выговаривает бессвязные бредовые идеи, заявляет, что он готов умереть и просит отдать предназначенный для него цианистый калий. А это значит, что женская часть Шребера уже выросла и уже “располагается” на своего рода базальной мембране, границе, разделяющей жизнь и смерть.
Основой этой мембраны составляют чувства удовлетворения и блаженства, т.е. клеточные чувства, являющиеся следствием процесса оплодотворения (первично эротическое удовольствие, инстинкт смерти) и деления клеток (вторично эротическое удовольствие, инстинкт жизни).
Опираясь на эти чувства, либидо Шребера пытается снова двинуться вперед и подняться к объектам реального мира, но оказывается не на той дороге. Оно заполняет собой “женскую линию”. Поскольку либидо “обвалилось” не все, а некоторая его часть осталась зафиксированной на объектах внешнего мира, психика Шребера стала функционировать одновременно в архаичной (фетальной) и реальной системах, испытывая при этом блаженные чувства.
Ближайшей к выше поднятой, является тема выхолащивания, своего рода инициация при посвящении в женщину. Выхолащивать человека, как это мы понимаем из Мемуаров, означает кастрацию, очищение от моральной гнили (“сладострастного развращения”), а затем и постепенное наполнение тела сладострастными (женскими) нервами.
В качестве определенной компенсации выхолащивания человеку предлагается новый вид ощущений “чрезвычайно возвышенного удовольствия”, которым, вероятно, является клеточное удовольствие, о котором говорилось выше.
Поскольку тема смены пола в Мемуарах была одной из главных, нам следует остановиться на ней отдельно.
Говоря о выхолащивании, мы не должны забывать, что это выхолащивание на языке символов, может означать и роды, отделение от тела матери, утрату своего мира, детского места, вслед за которым наступает сон новорожденного и “постепенное наполнение тела сладострастными (женскими) нервами”.
Следует предположить, что во время сна новорожденного, в качестве определенной компенсации выхолащивания (рождения) человеку предлагается новый вид ощущений “чрезвычайно возвышенного удовольствия”, что и может быть удовольствием новорожденного от избавления от внутриутробной скрюченности, да и всего того, что являлось предметом неудовольствия плода.
Выхолащивать – делать человека бесполым, лишать его самости, возвращать в фетальную фазу развития с приданием ему женских (материнских) свойств.
В случае Шребера это означает, что его либидо нашло иную, женскую ветвь для своего подъема. По этой прямой и обратной причинно-следственной связи попытки выхолащивания привели к тому, что вскоре стало очевидно, что постепенное наполнение его тела сладострастными (женскими) нервами имел противоположный эффект, который скорее увеличивал силу притяжения, так называемую “душевную похоть”.
Ранк писал: “Всякий страх ребенка происходит из страха рождения и всякое удовольствие ребенка связано с возвращением первичного внутриматочного удовольствия”[46].
Следует отметить, что при развитии и регрессии человек проходит один и тот же путь, что туда, что обратно.
Ференци Ш. писал: “Тенденция возвращения в материнскую утробу одинаково господствует над обоими полами”[47].
Однако, должны ли мы, изучая действительно захватывающую теорию травмы рождения, слепо следовать за размышлениями автора, игнорируя при этом собственные мысли и убеждения, скатываться в колею психологических представлений?
Отстаивая теорию кастрации, Ранк писал: “Мне представляется очевидным, что детский первичный страх в ходе развития совершенно естественным образом переносится на гениталии, и именно из-за их всегда смутно предчувствуемого (или вспоминаемого) фактического биологического отношения к рождению (и зачатию). Понятно и, собственно, само собой разумеется, что именно женские гениталии как место переживания травмы рождения затем вскоре опять становятся главным объектом первоначально оттуда и произошедшего аффекта страха”[48].
То, что представляется очевидным О. Ранку, при тех же самых аргументах не становится очевидным для нас. Нам непонятно, почему детский первичный страх рождения переносится на только на женские гениталии и почему этот трансфер должен считаться совершенно естественным?
Ранк разъяснил этот момент тем, что плод знает (“смутно предчувствует или вспоминает”) о биологической роли его полового члена и его причастности к собственному зачатию и рождению.
Во-первых, непонятно по какой причине травмирующая роль приписывается только женским гениталиям, а не, предположим голове, которая в родовой канал проникает первой, либо другим частям тела. Во-вторых, материнские гениталии плод не видит в том виде, в котором они предстают перед нами и уж тем более не осознает их роль, как родовых путей. И, последнее. Совсем непонятно, каким образом его собственные гениталии (гениталии плода), о которых он не имеет никакого представления, вдруг становятся предметом сохранения в памяти?
Но, выстраивая сомнения в травмирующей роли мужских гениталий, мы не должны забывать и о том, что дают нам знания о бреде больных, мифах, сказках, былинах и т.д., а также психоаналитический опыт. Их то мы игнорировать не вправе.
Создается впечатление, что плод действительно каким-то образом в курсе о периодических проникновениях, либо о попытках таких проникновений со стороны постороннего тела.
Зададимся вопросом, а в курсе ли сама женщина того, в какой части ее тела и в какой момент находится посторонний предмет? Конечно да! Своим внутренним взором, посредством своих ощущений она прекрасно ощущает то, что находится внутри ее половых путей. Именно эта убежденность и ее связь с правдивой информацией, которую мы получает впоследствии от взрослого человека, дает нам основания считать, что этот же взгляд на процесс имеет и плод. Понятное дело, что плод не видит половой контакт родителей, так как будто он бы происходил в прозрачной системе. Он видит его по-другому и это видение передается ему от матери.
Если это так, то все встает на свои места – плод “видит” половой контакт своих родителей. Но видит, если следовать этой логике предположений, не только половой контакт, но и все остальные проявления окружающей жизни.
В этом предположении мы находим подтверждение о правомерном существовании, выдвинутого нами утверждения о том, что существует некая система сознания, общая для матери и плода – “Мега-Я” плода. Отношения родителей (половые, неполовые, в данном случае это неважно), в сознании плода не просто остаются, но и фиксируются в форме воспоминаний, а эти воспоминания имеют свойство оживать, как только к ним возвращаются. Они становятся первичной точкой “осознанной” жизни, к которой при глубочайшей регрессии возвращается психический аппарат взрослого человека. Во время бреда, к примеру.
Разовьем эту мысль и предположим, что любой плод (неважно какого он пола), в своем сознании, в своем “Мега-Я”, посредством знаний, полученных от матери, “понимает”, а скорее “знает”, не имея, правда, никакого представления о существовании женских гениталий, “выполняет женскую роль”, как писал Шребер, “занимался самими мерзкими делами”.
Пройдем дальше по этой логической линии и увидим, что интерес к женской роли на бессознательном уровне характерен для обоих полов, только у женщин он лишен “мужских тормозов” и из бессознательного уровня, переходит на уровень сознания.
В этой связи утверждения О. Ранка о том, что: “Понятно и, собственно, само собой разумеется, что именно женские гениталии как место переживания травмы рождения (а по-нашему фетальных неудовольствий и травм, прим авт.), затем вскоре опять становятся главным объектом первоначально оттуда и произошедшего аффекта страха”[49], находят для себя более твердую почву, чем имели ранее.
Но вернемся к кастрации. О. Ранк, справедливо ссылаясь на утверждения Штэрке, пишет: “Значение страха кастрации базируется на “первичной кастрации” рождения, т. е. отделения ребенка от матери”[50]. И, по нашему мнению, именно здесь кроется истинный смысл страха кастрации, который З. Фрейд поставил во главу угла своей психологии.
Согласимся с тем, что совершенно неважно внешнее оформление страха кастрации, если внутреннее его содержание едино для всех остальных случаев. Природный смысл этой кастрации рождения, как мы считаем, заключается в том, что плод лишается основного источника “знаний”; его “Мега-Я” становится обычным “Я” и наполнять его информацией, должен теперь сам ребенок.
Есть еще одно у Ранка, с чем мы бы поспорили. Он пишет: “Это лишь кажется, что не вполне целесообразно говорить о “кастрации” там, где речь еще не идет об отчетливом отношении страха к гениталиям, когда это отношение дано только через факт рождения из (женских) половых органов. Сильную эвристическую поддержку это понимание находит в том, что оно, несомненно, раскрывает нам загадку повсеместной распространенности “кастрационного комплекса”, так как оно может объяснить общность этого комплекса с неоспоримой общностью акта рождения; эта точка зрения также обнаруживает свое огромное значение для полного понимания и реального обоснования, и других первичных фантазий. Теперь мы надеемся лучше понять, почему “угроза кастрации” закономерно оказывает столь колоссальное и устойчивое действие на ребенка – а также то, почему детского страха и происходящего из него, “попутно приносимого” актом рождения чувства вины не удается избежать никакими воспитательными мероприятиями или снять обычными аналитическими разъяснениями”[51].
Итак, как следует у Ранка, поскольку мы все были рождены, т.е. прошли через родовые пути, каждый из нас в момент родов “подхватывает” страх кастрации.
Мы считаем, что это не так. Свою позицию относительно этого вопроса мы попытались раскрыть в работе “Травмы и удовольствия фетального периода”. В ней мы предположили следующее.
Весь фетальный период голова плода наклонена вперед и до самого момента родов он видит перед собой пуповину, которая закрывает собой его гениталии. Поскольку пуповину обрезают в момент родов, а ее остаток отваливается на первой же неделе жизни, он забывает про ее существование, хотя смутные воспоминания где-то сохраняются. В момент знакомства с окружающим миром он обнаруживает “ее” остаток, сначала у животных, потом у своих друзей – пацанов, но никогда не обнаруживает ее у девочек. В конце концов, если это мальчик, то обрезок “пуповины” он обнаруживает и у себя. Только это обретение его нисколько не радует, поскольку к этому моменту в памяти оживает картина другой, более крупной пуповины. Сравнивая себя с девочками, он понимает, что ему еще повезло, что у него хоть что-то осталось. Подозрения в “бесчинствах” падает на отца, имеющего среди всех ему знакомых людей, большую «пуповину». Он, способный лишить “пуповины” всех остальных, кроме себя и становится кастрирующей фигурой со всеми вытекающими из этого последствиями. Что происходит дальше, нам уже известно.
Из этого следует, что родовые пути матери к теме кастрации имеют только опосредованное отношение. И оно заключается в потере “Мега-Я”.
К тому же, как мы считаем, в момент родов ребенок природой лишается сознания. И как это не покажется странным, именно для профилактики травмы рождения.
Есть еще один момент, на котором бы хотелось остановиться.
Говоря о кастрации, мы все время подразумеваем психический компонент этого феномена, однако любая кастрация должна предполагать физическую потерю (отделение от тела) определенного, данного природой органа.
Для плода потеря при рождении контакта с матерью (отделение от матери), также является потерей органа, а эта потеря сопровождается соответствующими внутренними переживаниями и, в-первую очередь, страхом за свою жизнь: ведь “управлять и властвовать” больше не над кем; привычный мир звуков разрушен, окружающий свет изменился, стал холодным, температура внешней среды резко упала, грудь болит от резкого раскрытия легких, голова трещит от ее сжимания…, еще и ни за что надавали по ягодицам.
Мы не можем узнать от плода, как ощущается им потеря органа, но мы можем об этом узнать от взрослых людей, перенесших соответствующую потерю. Фантомные боли, известные как последствия потери определенной части тела, могут кое-что рассказать нам об этих чувствах. А теперь задумаемся. А разве бред и галлюцинации не являются оживлением этих самых фантомных болей?
А теперь, если мы обратимся к воспоминаниям Шребера, его истории болезни, мы еще из одного источника узнаем об ощущениях и переживаниях плода в этот период.
Обратим внимание на то, что Шребер достаточно часто говорил о болях, но мы нигде не встретили его ссылки на какой-либо больной орган. Что конкретно у него болело, он так нам и не поведал. Считаем, что эти боли являются воспоминаниями и относятся к интранатально – постнатальному[52] периоду.
Раз уж в психоанализе любят, и в этом есть свой смысл, ссылаться на примеры из животного мира, сошлемся на такой пример и мы. Ящерица, желающая спасти свою жизнь, а поэтому откидывающая свой хвост, разве она не испытывает боли? Ей просто некогда свою боль показывать, ее достаточно хорошо демонстрирует, извивающийся в кастрационных муках хвост. Земляной червь, разве он не демонстрирует нам этот же феномен. Человек, потерявший конечность… Нам просто нужно быть внимательнее… И следует предположить, что такие же муки испытывает и плод, после отделения его от матери и разрушения его “Мега-Я”.
О. Ранк, говоря о психологической составляющей травмы рождения писал: “Руководящей линией при этом (травме рождения, прим. автора) нам должно служить фрейдовское положение о том, что всякий аффект страха в основе сводится к физиологическому страху рождения (удушье)”[53].
Тогда зададим себе вопрос, а влечет ли к удушью потеря конечности, к примеру?
Да, новорожденные в момент рождения могут испытывать нехватку воздуха и даже от этого погибнуть. Но это же не единственный травмирующий фактор? Тем более, что в сознание он приходит только после первого вздоха.
Боль мы куда денем? Проигнорируем? Раньше плод находился в определенной оболочке: водная оболочка, мышечножировой слой живота матери, ее одежда и так далее создавали для него определенную защиту. Он использовал эти оболочки в своем интересе. После отделения от тела матери, должен ли он хоть как-то отреагировать на потерю этих оболочек? Удар в грудь, который плод чувствует после раскрытия от атмосферного давления его легких, разве не он заставляет плод кричать? Все это в целом и есть чистой воды физический компонент синдрома кастрации – рождения – отделения от матери.
Поэтому, когда мы говорим о синдроме кастрации в том виде, как его видел З.Фрейд, т.е. потеря полового органа, это только маленькая часть огромного ужаса, который содержит в себе ее компонент.
Мы не пытаемся переписать теорию кастрации Фрейда. Она справедлива, поскольку относится к сознанию человека, но ее нельзя ограничивать сначала потерей полового члена, а потом завистью к его наличию. По нашему мнению, более выигрышная в этом плане позиция О. Ранка, который соотносил кастрацию с травмой рождения.
Ожидание эволюционной потери Шребером мужских гениталий и их превращение в женские – это способ обретения нового тела и новой жизни. В его случае это означает, что его либидо нашло иную, женскую ветвь для своего подъема, а на этом пути его повторного развития мужские гениталии ему были не нужны. Потерял он интерес и к чувству мужского удовлетворения. При наполнении либидо женской ветви, ему вполне хватало ночных женских наслаждений. Ему только требовалось поближе узнать женские особенности: правильно ли модифицируется в женское его тело, для чего он искал и у сестры на коже чувствительные образования; а с женой, сделав ее своей “подружкой” обсуждал ночные женские удовольствия.
В части своих Мемуаров (гл. V), касающихся природы “нервного языка”, Шребер писал, что после того, как он получил доступ к газетам, он вдруг узнал, что “сотни, если не тысячи, имен” тех лиц, кто связывался с ним в форме души, а поэтому признаку он считал их умершими, были “все еще среди живых”. Ранее эти души говорили с ним более или менее равнодушно, как “голоса”, каждый из которых не знал ничего о присутствии других. У душ были свои собственные мысли, что вызывало у Шребера “максимальный интерес к ответам на вопросы”, тогда как их голоса “состояли только в ужасно монотонном повторении одних и тех же (заученных) фраз”. Помимо этих душ, которые можно было признать отдельными людьми, всегда были другие голоса, которые, как Божье всемогущество, стали появляться во все более высоких восходящих инстанциях и которым упомянутые отдельные души в некотором смысле служили. Этому языку Шребер дал название “нервного языка”.
Примером “нервного языка” может служить работа некоего механизма, издающего один и тот же монотонный звук, как стук колес поезда, в котором каждый из нас способен услышать свою информацию.
Не исключено, что за всю свою жизнь Шребер накопил достаточно примеров появления “ужасно монотонных фраз” и, даже, не только заучил их, но и придал им смысл. Однако когда-то эти “ужасно монотонные фразы” он услышал впервые.
Придерживаясь точки зрения, что его воспоминания являются ретрансляцией фетальных воспоминаний, мы сходимся на мысли, что эти монотонные фразы, являются фетальными воспоминаниями шума организма матери. Только впоследствии он, произвел сгущение этих и более поздних воспоминаний в один “пакет”, “забыв” при этом при ретрансляции отделить одни от другого.
Если наше предположение верно, то оно должно быть подтверждено другими данными и вместе с ними начать намекать нам на следующий элемент, который должен находиться где-то рядом с этим.
Определенное подтверждение выше изложенного с одновременным развитием темы, мы находим в его словах: “Помимо этих душ, которые можно было признать отдельными людьми, всегда были другие голоса, которые, как Божье всемогущество, стали появляться во все более высоких восходящих инстанциях и которым упомянутые отдельные души в некотором смысле служили”.
Поскольку мы заявили о том, что “фразы”, когда-то были простыми звуками организма матери, а позднее им был придан определенный смысл, мы должны утверждать, что этим “фразам”, кроме смысла должен быть придан и их носитель или носители, в данном случае, – души. При этом, как это и должно быть, одним из источников и носителей “фраз” могли бы быть и “отдельные люди”, если бы их можно было бы увидеть.
Интерпретируя случай со списком “сотен, если не тысяч” “заживо погребенных” Шребером лиц, останавливаешься на мысли, что плод невозможно однозначно отнести ни к живым, ни к мертвым, а в этом контексте он сам является кем-то вроде “заживо погребенным”, поскольку, являясь живым, он вынужден ворочаться в матке, как в закопанном гробу. Этот намек Шребера на фетальную природу воспоминаний нами понят.
Конечно, в Мемуарах некоторые из них имеют свои имена, родственную, религиозную и профессиональную принадлежность, но есть и те, кого Шреберу трудно было идентифицировать, как по голосу, так и по образу, поскольку они, оставаясь для него невидимыми, но слышимыми, появлялись в его мире случайно и на очень короткое время; своего рода “мимолетные люди”. Не имея своих конкретных идентификационных признаков, они стали “сотней, если не тысячей” “потусторонних” душ.
На “основном языке” “живые-мертвые” мы понимаем, как сам момент регрессии (провала) либидо. При этом галерея (имен и лиц) “заживо погребенных”, есть форма возвращения, или оживления фетальных воспоминаний, которые снова напоминают о себе в момент регрессии либидо. Они всегда “копошились” в бессознательном и “копошились” бы там, недоступные сознанию и далее, если бы не “вернувшееся” либидо, которое момент своего нового “ухода”, выпустило некоторую часть этих воспоминаний в верхние структуры психики.
Ранее мы предполагали, что в месте фиксации либидо формируются воспоминания, которые в случае его возвращение (при регрессии, к примеру) являются не только поддерживающим фактором, но и опорой, от которой отталкивается либидо при возвращении к объектам. И сейчас мы видим этому подтверждение.
Объяснить эту иерархию душ и голосов можно через иерархию, которую Шребер прошел при своем развитии на профессиональном пути. И не будем забывать, что Шребер являлся немцем до корня своих волос, где к порядку свое отношение. К тому же, как писал Фрейд: “Всюду, где имеется иерархия, открыт путь для желаний, нуждающихся в подавлении”[54].
Описывая личные впечатления (гл. X), Шребер указал, что особого внимания заслуживает состояние перехода от сна к бодрствованию (просоночное состояние), во время которого, как мы знаем, либидо выходит из “Я” и возвращается к объектам. В этот момент оно, “выносит” из глубин психики воспоминания, связанные с удовольствием; появляется приятное чувство, чувство повышенной активности и работоспособности. Вот и Шребер, пока лежал в постели, находясь между сном и бодрствованием, в своем воображении и в сиянии лучей увидел нижнего Бога (Аримана), и услышал его язык. Он говорил мягким шепотом, но звучал как могучий бас. Это произвело на Шребера огромное впечатление, и он был потрясен до глубины души, поскольку он так и не ожесточился от ужасных чудес, которые с ним произошли.
Раскрывая природу этой иллюзии, Шребер интуитивно правильно, как мы полагаем, связал еще полностью непроснувшийся психический аппарат с видением. Указав, что “природу неправильного образа мышления следует выводить из памяти о процессах, которые были регулярным сопровождением нервного придатка, снятого спящим человеком (во сне)”, он указал нам на источник “ошибки”, который кроется в его “Я”. При этом не догадываясь, что образ Аримана происходит из фетального величия, Шребер правильно указал на временную связь, возникающую в просоночном состоянии, между “божественными лучами и нервами соответствующего человека” и являющуюся одной из причин “вдохновения по поводу любых вещей, касающихся будущего, стимуляции поэтического воображения и т. д.
Однако, одновременно с приятными чувствами в своем просоночном состоянии Шребер заметил еще и “небольшие звуки (так называемые “беспорядки”), которые отвлекали внимание спящего, возможно, пробуждающегося человека в другом направлении, и этот краткий период отвлекающего внимания был тогда достаточен по отношению к нервам, которые не были в состоянии возбуждения, потому что лучи поднимали нервную линию, вызывающую возбуждение и взволнованность нервов”. Он отметил, что большой опасности для Бога в этом не было, но этот феномен вмешался в их отношения, был на них перенесен и дополнил давно неразрешимый из-за чрезмерно повышенной силы притяжения нервов конфликт, существующий между Шребером и “божественными лучами”.
Создается впечатление, что пока одна часть личности Шребера испытывала приятные чувства, которыми богато просоночное состояние, другая, как бы заявляя о своем появлении, еще не умея “ходить”, не понимая существа жизни, “пошатываясь”, вела себя как слон в посудной лавке – создавала “беспорядки”. Конечно, для внешнего мира (Бога) эти “беспорядки” не имели никакого значения, поскольку являлись признаком внутреннего конфликта между личностями: Богу было все равно кто “выйдет с ним на связь”.
Эта новая личность, еще помнящая о фетальном спокойствии, посредством голосов подкинула в сознание мысль о том, что для сохранения состояния блаженства и для выздоровления требуется покой, который она только что пережила. Поэтому Шребер, полагая, что это приведет его к выздоровлению, под влиянием голосов, утверждающих, что если он сохранит свое тело в постоянном отдыхе, то будет восстановлено его единство с Богом, “взял на себя почти невероятную жертву воздержания” на несколько недель или месяцев от любой, кроме речи, физической активности. И, следовательно, каждое занятие, кроме разговорной речи, были запрещены в течение нескольких недель и месяцев. Дело дошло так далеко, что даже в ночное время, когда во сне ожидался приход “испытуемых душ”, он не смел менять свое положение в постели. Но жертва была напрасной, поскольку тогда он еще не знал о “настоящей злой воле Бога”, который “вышел на контакт” с новой частью личности Шребера.
Такое поведение Шребера напоминает нам поведение маленького ребенка, который выражая свое несогласие и неудовольствие против требований (заговора) родителей, заявив им: “Я умру, пусть вам будет плохо”, закрылся в своей комнате и в ожидании смерти отказывается вступать в разговор с кем-либо из родителей.
Эта “тупость и неподвижность”, как называл ее Шребер, – способ общения с миром (Богом), который был выработан им еще в фетальный период. Объясняя это состояние, пациентка Лэнга говорила: “… Я пыталась умереть, став кататоничкой”[55].
Ранее мы предполагали, что во время беременности плоду не остается ничего иного, как смириться, затихнуть и просто пережить неприятные минуты своей утробной жизни. Шребер полагал, что отказ от физической активности, помогут ему и в реальности пережить свое перерождение. Но жертвы были напрасными, поскольку, как указывал З. Фрейд “намерение “осчастливить” человека не входит в планы “творения” [56]. Позднее Шребер и сам поймет, что Бог был одной из сторон заговора.
В Мемуарах (гл. XI) Шребер писал, что с самого начала своей связи с Богом (конец 1894, начало 1895г.) его тело постоянно было объектом божественных чудес. Он указывал на то, что “едва ли есть одна конечность или орган моего тела, которые не были временно повреждены чудесами, ни один мускул, который не был бы приручен чудесами” … “Даже по сей день чудеса, которые я испытываю каждый час, являются частью такого характера, что они должны подвергать любого другого человека смертельному ужасу. Только через годы привыкания мне удалось не обращать внимание на большую часть того, что все еще происходит как мелочи. Но в первый год моего пребывания в “Солнечных камнях” чудеса были настолько опасны, что я думал, что должен почти постоянно бояться за свою жизнь, свое здоровье или мой разум. Для лучей задача состояла в том, чтобы создать что-то, а не просто его уничтожить. Поэтому не все чудеса, которые были направлены против него, в конечном счете являлись разрушительными. То, что испортили или повредили “нечистые лучи”, должны были восстановить или исцелить позднее “чистые лучи”. Но это не избавляло его от ощущения, что самый ужасный ущерб все же наносился и создавалось впечатление экстремальных опасностей и очень болезненных изменений. Эти ощущения включали, в частности, всевозможные изменения в его гениталиях, бороды, усов, роста, спинных позвонков и, возможно, также костного вещества бедер. Последнее чудо, исходящее от низшего бога (Аримана), регулярно сопровождалось им словами “Я делаю тебя немного меньше”.
Как и ребенок, который так и не смог умереть в своей комнате, со временем понимает, что его тело через голод оказалось ими приручено, а требования родителей не так уж и несправедливы, выходит из добровольного заточения для поиска компромисса, так и Шребер вынужден был согласиться на контакт с новой личностью и выслушать все ее требования.
Оказалось, что она не желает ему вреда. Напротив, преследует те же самые цели, что и он сам. Приписав эти свойства лучам, он сделал вывод о том, что “для лучей задача состояла в том, чтобы создать что-то, а не просто его уничтожить”, что “не все чудеса, которые были направлены против него, в конечном счете являлись разрушительными”. Но, как и ребенок, выйдя на компромисс, понимает, что какая-то несправедливость все же осталась, так и Шребер понимал, что новая личность преследует какие-то свои интересы. Поэтому “это не избавляло его от ощущения, что ужасный ущерб все же наносился посредством экстремально опасных и очень болезненных изменений”. Это, в первую очередь, касалось “всевозможных изменений в его гениталиях, бороде, усах, росте, спинных позвонках и, возможно, также костного вещества бедер”.
Процесс разрушения и созидания лучей воспринимался им как тяжелый, но необходимый процесс его трансформации и нового рождения. Против этого процесса он никогда не возражал, а, напротив, “неся свой крест” пытался собрать свидетелей своих модификаций. Если нижний Бог (Ариман) “делал его немного меньше”, он относился к этому с удовлетворением, поскольку с таким ростом он приближался к среднему росту женщин. Если его беспокоили боли в области семенного канатика, то он считал, что это делается с целью подавления чувства похоти.
Очень разнообразными были чудеса, которым подвергались внутренние органы грудной и брюшной полостей. Во время его нахождения в психиатрической клинике Лейпцигского университета, у него вообще было заменено сердце. Его легкие долгое время были объектом интенсивных и очень угрожающих атак, и он вынужден был серьезно опасаться смертельного исхода в результате туберкулеза легких. Его беспокоил, так называемый, “легочный червь”, о котором он не мог сказать, было ли это животное, или душевной сущностью. Этот червь вызывал острую боль в легких (в тот момент он болел пневмонией). Его легкие временами почти полностью поглощались, а диафрагма смещалась к самой гортани. Между ними остался лишь небольшой остаток легких, которым он едва мог дышать. Были дни, когда ему приходилось, гуляя по саду, “покупать” свои легкие заново. Он был уверен в том, что действие разрушающих лучей ограничено; они не могут совсем разрушить те органы, которые необходимы для поддержания жизни. В то же время определенная часть его ребер разрушалась, но всегда через некоторое время восстанавливалась. А вместо желудка у него появился очень низкий, так называемый “желудок еврея”.
Кто не увидит во всем этом перечислении чудес состояние тела плода?
Особое место в воспоминаниях Шребера (гл. XI), занимают те, что свидетельствуют о регрессивного пути психики Шребера, – упоминания о химусе (пищевом комке), “брюшном пятне”, брюшной полости и бедрах.
Напомним, что каждый маленький ребенок, не имея никакого знания о биологических принципах построения его тела, относясь к своему телу, как к какому-нибудь живому механизму, свято верит в свою бессмертность. Во время еды, как считает ребенок, пища, поступающая в его организм, распределяется там как в мешке, заполняя собой брюшную полость, бедра, руки, голову. Подобное мышление, развивается, когда ребенок начинает играть в куклы, отрывая им конечности и голову, обнаруживая, что у куклы внутри ее тела пустота, наполненная ватой или опилками. Он переносил по образу и подобию внутреннее строение куклы на самого себя и начинал подозревать о внутреннем строении своего собственного тела.
Шребер, регрессировав в этом вопросе до уровня маленького ребенка, исключив из своей памяти вопросы анатомии человека, свято уверовал в то, что у него нет желудка, а пища просто складируется в его теле. Поэтому Шребер беззаботно ел, “зная”, что у него нет желудка.
В частности, он писал: “Если “чистые лучи” наслаждались пищей и напитками, тогда они “легко вливались в брюшную полость и бедра”, что сопровождалось ясными ощущениями. Разумеется, что любой другой человек погиб бы от воспаления (перитонита). Но распространение химуса в любой части моего тела не могло навредить мне, потому что все нечистые вещества в моем теле поглощались лучами”.
Не следует забывать, что воспоминания о внутреннем строении куклы, являются более поздними воспоминаниями. Самыми первыми воспоминаниями о внутреннем строении человеческого тела, являются его воспоминания о собственном внутриутробном опыте. У него каким-то образом оживились воспоминания о том, что он находился внутри другого тела, а это тело полое внутри.
Что это, если не воспоминания о матке?
Пауль Шилдер и Дэвид Вечслер, исследовавшие суждения маленьких детей о внутреннем строении тела, писали: “В глубинных, инфантильных слоях нашей психики мы не вполне уверены, существует ли что-либо внутри нас, за исключением того, что мы отправили туда извне”[57]. Там же мы обнаруживаем утверждения ребенка, в соответствии с которыми его грудная клетка наполнена хлебом, молоком или мясом, пищу считает просто содержимым брюшной полости.
Говоря о том, что маленькие дети знают о том, что находится внутри тела, они (П. Шилдер и Д. Вечслер) обратили наше внимание на то, что ребенок, “если и слушал о желудке, он не так важен по сравнению с его содержимым”[58]. Вот и души Шребера думали о чем-то лучшем, чем земная пища; а поэтому смотрели на обычную пищу с некоторым презрением.
Далее он писал: “Если “чистые лучи” наслаждались пищей и напитками, тогда они “легко вливались в брюшную полость и бедра”, что сопровождалось ясными ощущения. Разумеется, что любой другой человек погиб бы от воспаления. Но распространение химуса в любой части моего тела не могло навредить мне, потому что все нечистые вещества в моем теле поглощались лучами”.
Поэтому Шребер беззаботно ел и без желудка. Он постепенно привыкал к безразличию ко всему, что происходило в его теле. Он был убежден, что невосприимчив ко всем естественным болезням. Зародыши болезни могли возникнуть в его теле, но тут же устранялись лучами. Всесилие, которое он испытывал в тот момент вызывали у него большие сомнения относительно того, до вреда, который ему могут причинять яды. У него возникло ощущение бессмертия. И когда он просил у Флексига цианистый калий, он лукавил, потому, что знал – он может принимать яды без вреда для здоровья и своей жизни.
Следует предположить, что регрессия в детский возраст, не является конечным пунктом для либидо; оно транзитом проходит к более древним структурам психики, архетипическому разуму. Как мы знаем, от эмбриологов, плод, располагаясь в матке имеет склоненную вперед голову, открывает и закрывает свои глаза, рассматривает детское место, свою пуповину, руки и ноги, а возможно, и половые органы. В этот период он, получая удовольствие и неудовольствие от внутриутробной жизни, фиксирует, формируя будущие воспоминания, в памяти, происходящие с ним и вокруг него события. Этим, по нашему мнению, объясняется и последующее развитие событий, которое проходят все дети, когда намного позднее, уже после рождения они с интересом рассматривает свой пупок, ковыряются там, ища вход в свое тело, и “потерянную” пуповину о которых у них, возможно, остались смутные воспоминания.
Он писал, что у него “есть чудо, которое поражает весь живот, так называемое брюшное пятно”. Это чудо регулярно исходило из души У., который предельной беспощадностью бросал гниение в живот Шребера, так что тот не раз думал, что должен был сгнить заживо, что подтверждалось отвратительным запахом, который исходил изо рта.
Учитывая с детства отличную память Шребера (мы можем предположить, что отличной она была и до рождения), мы можем предположить, что у Шребера-грудничка (или у его младшей сестры) имелось гнойное воспаление пупочной раны (омфалит) с последующим развитием гиперпигментации, которое дополнительно зафиксировало внимание маленького ребенка на пупке. Проходя в своей регрессии через детский период, Шребер оживил эти воспоминания и нашел им место в своих болезненных представлениях.
Нет никакого сомнения в том, что запах изо рта может являться отражением реальных переживаний. Но это не лишает нас возможности утверждать, раз уж он упоминается в ассоциативной связи с “брюшным пятном”, что он является воспоминанием о детском отвращении к пище.
Раз уж мы коснулись темы внутриутробной жизни Шребера и строения его внутренних органов, есть смысл в этом же контексте проанализировать его другие воспоминания.
По нашему твердому убеждению, плод не может не подвергаться неприятным для него ощущениям, в-первую очередь, связанных с давлением, которое на него оказывает, как само детское место, так и тело матери. В Мемуарах эта тема является главной, поскольку Шребер настойчиво пытается нам показать, что изменения в его теле, являются следствием божественных чудес, связанных с его исключительностью.
Исключительность, на которой настаивает Шребер, является своего рода психологическим атавизмом фетальной, а в последствии и детской мании величия. Шребер утверждал, что с самого начала своей связи с Богом (конец 1894, начало 1895г.) его тело постоянно было объектом божественных чудес, особенно в первый год его пребывания в “Солнечных камнях”, т.е. в период манифеста его заболевания и прорыва внутриутробных воспоминаний. Чудеса для него были настолько опасны, что он “постоянно боялся за свою жизнь, свое здоровье или разум”.
Не в силах вернуть на место, либо объяснить каким-либо иным образом, всплывающие в сознании фетальные воспоминания о борьбе с организмом матери за выживание, Шребер, опираясь опять же на фетальные воспоминания о лучах, приписывает им, а не периоду своего развития все те неудобства и “повреждения”, которые он “заметил” в своем теле, равно как и удовольствие, с которым этот период был связан. Его фетальная амбивалентность раскололась на две части, за каждую из которых отвечали те, или иные лучи, тот, или иной Бог, те, или иные голоса.
Трудно угадать, понимая, что бред имеет смысл, природу лучей, на которые указывал Шребер. Однако, если исходить из утверждений Шребера о том, что “почти непрерывной мишенью чудес являются глаза, через которые они проникают в тело”, можно прийти к выводу, что под чудом лучей Шребер имеет в виду свет.
Тот момент, что он пишет о лучах, а не о свете, нами должен пониматься как феномен, имеющий свои корни в более раннем доэмбриональном периоде, когда как таковой свет он еще не мог увидеть.
Если мы исходим их того, что лучи – это следствие фетальной жизни, то и все, что связано с этими лучами, мы должны отнести к тому же периоду. К примеру, пастой, которой лучи обволакивали его нервы, могла быть первородная смазка, которую плод мог наблюдать на своем теле и конечностях, находясь в матке. Эта же первородная смазка в сочетании с иными составляющими и свободно плавающими в околоплодной жидкости элементами, в лучах проникающего в матку света, могли формировать некое “звездное пространство”, которое в более поздние годы было опознано как звезды и планеты.
Косвенное подтверждение нашей гипотезы мы находим в видениях больной (шизофренией). Эта пациентка, объединив в одно целое наслаждение от вида падающих звезд, говорила: «Ну да, в моем бреду дождь из падающих звезд обозначал нечто совсем иное, чем в Библии! Напротив, это было такое наслаждение! Такая мощь! Такое возбуждение чувств». В тоже время, как дописала Шпильрейн: «Она ощущала приятное тепло»[59].
Примечателен еще один феномен, который может подтверждать выше изложенную догадку.
Шребер писал: “Когда я разговариваю с людьми, я вынужден закрывать веки, а, чтобы держать глаза открытыми, я должен приложить усилия”.
Мы полагаем, что, разговаривая с людьми, Шребер находился одновременно в двух реальностях; в психической (воспоминания внутриутробной жизни) и в нашем мире. Закрывание глаз является суррогатом сна, но очень короткого. Во время закрытия глаз Шребер регрессировал на фетальную стадию развития, откуда и вел наблюдения за тем и этим мирами одновременно.
Большинство угрожающих Шреберу чудес всегда были те, которые каким-то образом были направлены против головы и спинного мозга. Поэтому он пытался выкачать спинной мозг, который делали так называемые “маленькие люди”, находившиеся у него в ногах и чьи голоса он там слышал. Как правило, их было два, “маленький Флексиг” и “маленький фон У.”. Выкачивание спинного мозга приводило к тому, что во время прогулок в саду он в виде как в форме небольших облаков мозг выходил из его рта в большом количестве. Чудеса против головы и нервов происходили очень разными способами. В одном случае на время (по ночам) вырывались его нервы из головы, чтобы пересадить их в голову спящего в следующей комнате; это вытаскивание мозга всегда было очень умеренным, но устойчивость и сопротивляемость нервов Шребера была более сильной и нервы, через некоторое время возвращались обратно в его голову. В другом – “лучами света” в черепе Шребера устраивались ужасные опустошения; эти лучи проходя через череп, истончали и измельчали его; в третьем – посредством кривошипа до грушевидной формы деформировался череп.
Но определенной сопротивляемостью обладал и его организм. И когда по ночам “нечистые лучи” пытались вытащить из его головы нервы, Шребер на это не соглашался, и его нервы, обладающие большей устойчивостью и сопротивляемостью, возвращались обратно. Если при свете дня одни лучи (лучи света) истончали и измельчали череп, что вызывало “ужасные опустошения”, другие по ночам его восстанавливали.
Ощущения от действия этих лучей Шребер описывал следующим образом: “Можно вообразить, что из всех этих процессов должны возникать очень неприятные чувства, если учесть, что это лучи целого мира, как-то механически закрепленные в их исходных точках, нарисованных вокруг головы и примерно одинаковы в натуральном выражении поскольку они стремятся делиться или распадаться во время проникновения”. Питательные вещества, попадающие в тело (пищевой мешок) Шребера, покрывали его нервы пастой, отравляющим ядом.
Вытаскивание нервов из головы Шребера, как мы полагаем, должно было оставлять там пустоту, что согласуется с “ужасными опустошениями”, о которых он писал.
Поэтому пересадку нервов “спящему в соседней палате” мы не должны понимать буквально и отмахиваться от него. Ситуацию с пересадкой мы бы интерпретировали, как использования мозга Шребера другой психической системой – женским “Я”. Помните, он говорил “ранее был другой Шребер”? Тогда голоса, выражавшие его, как мы считаем, мужскую манию величия “говорили, что уже был еще один Даниэль Поль Шребер, который был духовно гораздо более одаренным, чем он”. В точку попал Шребер, когда предположил, что “этот другой Даниэль Шребер мог относиться только к нему, но в состоянии полного здоровья нервов”, т.е., находящегося в мужском “Я”.
Шребер писал, что: “Любое снятие освещения, любое продление естественной темноты, означало для меня огромное обострение моей ситуации”.
Как тут не обратить внимание на то, что разрушительные процессы происходят днем, а восстанавливающие – ночью. Ночь, под которой мы должны понимать любое время, когда в глаза плода и в его детское место не попадает свет, может “наступить” и днем, когда беременный живот матери был укрыт и саму реальную ночь. В таком случае, когда для плода “наступала ночь”, из его поля зрения исчезали “лучи”, “звезды и планеты” и либидо плода ничего не оставалось, как удалиться в “Я”, он засыпал. Когда появлялся свет, а вместе с ним голоса, шумы и “звездное небо”, плод начинал испытывать иную нагрузку на свой организм, он мог через свои ощущения начать “догадываться”, что является “предметом особого интереса” Бога, лучей, “маленьких людей” и так далее и тому подобное
В этом месте, говоря о лучах, нам нужно прерваться и отвлечься на другую тему.
Для любого человека понятен феномен “звезд в глазах”, когда он получает по голове или ударяется головой. Неоднократно мы слышали, что люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, видят яркий свет. В фильмах, по сюжету которого мы должны догадаться о том, что наступила смерть героя, нам предлагают аналогичную картину, где яркая вспышка света собирается в точку, уменьшается (удаляется) и исчезает совсем. Из этого мы должны сделать вывод, что свет живет внутри нас, что он является следствием работы нервного аппарата, посылающего свои импульсы во все стороны. Возврат либидо в “Я” так же сопровождается “потемнением в глазах”, что может нам указывать на отключение в нашем организме какой-то энергетической установки. Понятное дело, что, когда мы спим, наш организм, потребляя энергию из еще одного “неотключаемого” источника энергии продолжает функционировать. Соответственно трудно уйти от вывода, что мы имеем как минимум два основных источника энергии… Но сейчас не об этом.
Возвращаясь к лучам Шребера, нам ничего не остается, как предположить, что определенная часть его лучей может являться внутренним светом. Светом, который по каким-то причинам стал ему виден.
На этот счет у нас есть свое предположение, которое основано на ипохондрических симптомах болезни Шребера. Начнем с того, что мы видим свет тогда, когда он граничит с темнотой. В случае, если энергии не хватает, свет появляется очагами, как ночью на строительной площадке – где-то ярко, где-то темно. Из истории болезни Шребера мы знаем, что он страдал ипохондрией с начала взрослой жизни. Она же в том или ином объеме сопровождала его до самой смерти. Ипохондрические жалобы появляются тогда, когда имеется энергетическая ишемия органов и по какой-то причине они не “освещаются” изнутри.
В таком случае перед нашим внутренним взором встают темные и светлые пятна, или так скажем, темные места суживаются и игнорируются сознанием, как будто их нет, а светлые места путем такого обкрадывания соседних областей и “незаконного обогащения” получают больше внимание организма. Не согласные с таким подходом ткани, органы и системы, начинают все громче и громче заявлять о своем существовании и требовать к себе больше внимания на своем родном, “основном” языке, возникает ипохондрия.
Не будем мы забывать еще и о том, что от оргазма, функция которого заключается, по нашему мнению, в перезапуске внутренней энергетической системы, Шребер отказался, заменив его садо-мазохистическим удовлетворением в виде новой формы наслаждения.
Понятно, что не весь “текст”, изложенный на “основном” языке мы можем перевести. Его утверждения о том, что “в его черепе была создана не видная снаружи глубокая трещина, по обеим сторонам которой стояли “маленькие дьяволы” и завинчивали в голову какой-то “винт-кривошип”, который сжимал ее так, что голова, расширяясь вверх деформировалась, а поэтому приобретала почти грушевидную форму”, мы частично объясним детскими воспоминаниями (см. Нидерланда), а частично головными болями, причину которых мы объяснить не можем.
Обратим внимание на тот феномен, что после того, как Шребер принял решение “утихомирить” лучи своей неподвижностью, а для этого несколько недель лежал неподвижно, у него образовался застой в легких, который повлек за собой такие изменения как выпот жидкости в плевральную полость, присоединение инфекции и развитие гнойного плеврита, от которого он, после ее удаления, как бы “в знак протеста” и умер.
Создается впечатление, что Шребер в результате регрессии либидо и опускающегося на его гребнях сознания, находился в своего рода культуральном шоке от тех картин прошлого, которые он вынужден был рассматривать. Этим может объясняется подергивания лицевых мышц и сильное дрожание рук.
Пытаясь осознать, где он находится и что он здесь делает и не имея ответов на вопросы, Шребер оставался недоступен контакту. Если все же, сохраняя контакт с окружающим миром и отвечал, то делал это “коротко и пренебрежительно”, а когда все же решался давать ответ, то описывал то, что видел, чем и создавал впечатление, что “он находится под влиянием живых и смущающих галлюцинаций, которые интерпретировал бредовым образом”.
Опустившись в прошлое, он сразу оказался в фетальном периоде, где жили воспоминания, вызывающие у него, кроме “божественного наслаждения”, т.е. положительных эмоций, характерных для „божественного мира”, еще и отрицательные – напряжение, раздражительность, внутренний дискомфорт. В этих воспоминаниях Шребер ожидал появления Бога, но не знал каким он будет, добрым или злым, а поэтому не желая пропустить “пришествие”, требовал его не отвлекать, что выражалось в его словах о том, что “медперсонал мешал появлению всемогущего Бога и его нахождению в “божественном мире””.
Эта модель поведения Шребера, раз уж мы считаем, что он находится в регрессивном (фетальном) состоянии, указывает нам на психологическое состояние и физические реакции плода, которые он переживает.
Здесь мы находим объяснение не только детским страхам, имея в виду, что они тянутся из фетального периода, но и реакциям новорожденного (вздрагивание) на резкий звук.
Продолжая свои размышления, мы бы и легкость вхождения в паническое состояние, тоже отнесли бы к фетальным приобретениям, тем более, что само по себе паническое состояние, лишенное какого-либо осознания, проявляется в форме “фетальной тупости”, иррационального поведения.
Ранее мы указывали на то, что болезнь не приходит сразу и навсегда. Сначала она приходит и уходит, оставляя о себе воспоминания. Уход болезни позволил Шреберу вернуться в реальность (ноябрь 1894 года). Это подтверждает его поведение (смягчение осанки, повышению подвижности, последовательной, хотя и не всегда, речи, интересу к чтению, рисованию, игрой на фортепиано, большему вниманию тому, что происходило вокруг него), он стал пересказывать увиденное им лично, кратко стал излагать события, которые и были восприняты как “бредовые, фантастические мысли, являющиеся следствием настойчивых и поражающих галлюцинаций”.
Также, как и мы, съездив в отпуск, возвращаемся полными новых эмоций, делимся своими переживаниями с друзьями, родными и близкими, также и Шребер делился своими видениями с окружающими его людьми.
Только его “путешествие” на него повлияло по-своему. Череда переживаний и оживление воспоминаний, которые пережил Шребер во время его “путешествия”, смешала в его сознании образы настоящего и прошлого, превратив их в мистическое, бредовое. От реальных лиц, которых он, безусловно, слышал здесь, находясь “там”, он взял “голоса и души”, а от образов прошлого – ощущения и эмоции.
О следующем возвращении болезни мы можем судить по ухудшению его состояния, что проявилось в постепенном увеличении волнения, нарушении сна, громким и настойчивым, как бы, судорожным смехом (как днем, так и ночью), неаккуратным обхождением с фортепиано. Доктора правильно определили эту форму поведения как реакцию на возвращающуюся болезнь (новую регрессию либидо). Они указали, что “это очень заметное поведение следует понимать, как реакция на галлюцинации или иллюзии”, тем более, что и пациент сам обнародовал свои видения о гибели мира, замены его некоей иллюзией и появление вместо людей теней. Побывав в прошлом, где не требуется дышать, он и себя самого видел теперь как некую иллюзию, у которой “полностью было изменено тело” и которой “едва хватало воздуха для дыхания”.
Эта петля болезни изменила отношение Шребера к своему состоянию “и на место категорических отрицаний пришел дуализм” – он стал связующим звеном между Богом, его делами и реальным миром, между здоровьем и болезнью. Поэтому “с одной стороны, реакция на галлюцинации становилась все более шумной и интенсивной, с другой стороны, он был теперь гораздо более вежливым и доступным для врачей и других людей. Теперь он мог немного позаботиться о себе, начал более внимательно читать, играть в шахматы и фортепиано”.
Изменение поведения Шребера показывает нам, что он смог повторно овладеть энергией либидо, а вместе с этим получить и определенную порцию удовольствия. Это подтверждается занятиями, природа которых предполагает согласие с самим собой, т.е. либидо нашло себе объект.
Давайте вернемся к истории с фортепиано. Как известно, отношение Шребера к этому музыкальному инструменту имело прямо противоположное (символическое) отношение. В одном случае, он относился к нему с должным уважением, играл на нем самые сложные вещи, в другом, резко бил (барабанил) по клавишам, рвал струны, вероятно, тоже отражая свое настроение.
Поскольку фортепиано – музыкальный инструмент, а музыка – способ отображения душевного состояния, “музыка репрезентирует стадию человеческого духа, когда действуют не представления, а аффекты” – говорил Тауск; “Она может оказывать двоякое действие – очищающее и возбуждающее, а игра на фортепиано в сновидениях часто является символом онанизма” – утверждал Хичманн” при этом “аутоэротическое музыкальное побуждение выражено в фантазировании при игре на фортепиано” – писал Фридъюнг”[60]; мы согласимся с тем, что музыкальные звуки, которые добывал из инструмента Шребер, отражали его психическое состояние. Не вполне соглашаясь представлениями Хичмана о сновидных символах онанизма (в этом нет никакой необходимости, поскольку во время сна нам ничто не препятствует вступить в половой акт с кем-, когда- или где-либо. Кто не видел эротических снов?), все же согласимся с тем, что компонент сексуального (фетального) удовольствия присутствует и в музыке.
Поэтому, когда настроение Шребера менялось в ту или иную сторону, мы можем предположить, что в данный конкретный момент он испытывал: получает ли он удовольствие или неудовольствие.
В момент неудовольствия он смеялся “необычным, чрезмерно громким, вынужденным смехом”, монотонно произносил “часто очень непонятные в бесконечном повторении оскорбительные слова (например, “солнце – шлюха” и т. д.)”.
Возврат к Шреберу творческих способностей, свидетельствует нам о том, что в психике Шребера, как указывала С. Шпильрейн, “обратное разделение всего аутоэротического, которое посредством гетеросексуального компонента[61] снова согласуется с внешним миром”[62].
Неоднократные переживания своей фетально-женской роли, привели Шребера к осознанию мысли, что у него нет иного выбора, кроме как согласиться с идеей превращения в женщину. Признаки феминизации на его теле (ноябрь 1895 года) были настолько сильными, что он больше не мог избежать осознания цели этих изменений.
По ночам вопреки возражениям мужской части он думал о том, чтобы полностью отказаться от мужских гениталий. Ощущения наличия женского тела были очевидны. Они располагались на руках, ногах, груди, ягодицах и на всех других частях его тела и сопровождались проявлением женской душевной похоти.
И, если бы женская часть его личности стала доминировать, он лишил бы себя гениталий. Но дело в том, что у него была еще мужская часть, которая сопротивлялась грядущим телесным модификациям и выражая в форме отвратительного голоса свое сопротивление, приводила свои аргументы: “Неужели вы не стыдитесь своей жены?”; “Это то, что президент Сената хочет сказать …”. Но были аргументы и с другой стороны, предлагавшие Шреберу позволить себе руководствоваться здоровым эгоизмом, не обращая внимания на суждение других людей, сопровождая свои размышления фразой, типа: “Я также хотел бы видеть человека, которому был дан выбор либо стать глупым мужчиной с мужской привычкой, либо умной женщиной без таковой”.
Особое место в бреде Шребера занимает солнце. Между ними возникли отношения. Оно разговаривает со Шребером, а он на него кричит, оскорбляет и угрожает ему – солнце тускнеет. Он видит солнце не обычным образом, а “глазом, данным телу”, т.е. всем своим существом и солнце было не солнце в его обычном виде, знакомое всем людям, а окруженное сияющим морем лучей”, “великолепным призраком” размером с 10-ю или 12-ю часть неба. Солнце Шребер отождествлял с низшим богом (Ариманом), который в значительной степени отвечал за похоть в его теле и верхним богом (Ормуздом), который не так оживлял похоть Шребера, поскольку оставался от него на гораздо большем расстоянии.
Но, прежде, чем мы начнем рассуждать о роли солнца в бреде Шребера, мы должны обратить внимание на следующий момент, тесно с ним связанный.
Солнце означает свет. Этот свет Шребер видел “глазом, данным телу”, можно даже сказать, что чувствовал всем телом. Известно, что в тот момент, когда человека покидает душа, свет вокруг него гаснет и он погружается в темноту. В этой связи мы должны предположить, что свет, который он видел, являлся его внутренним. Он находился в его теле. Иными словами, энергетические процессы, происходящие в организме и есть тот источник света, который дополнительно к дневному свету все мы видим. Находясь в теле матери, где вокруг нас происходили физиологические процессы, мы видели и ее внутренний свет.
Вывод, который можно предположить в этой связи, заключается в том, что вторым солнцем, о котором говорил Шребер, мог быть внутренний свет организма матери, а поскольку этот свет, как описывал его Шребер был “великолепным призраком”, мы должны согласиться с тем, что он так же является фетальным воспоминанием. И когда Шребер отождествлял этот свет (солнце) с Богом, он указывал нам на то, что этим Богом является и его (света) носитель – мать, в-первую очередь, а отец и брат, т.е. семья Шребера, во-вторую. А иные, окружающие Шребера люди, в третью.
Теперь становится понятно почему люди, потерявшие интерес к жизни, говорят о ней словами, которые могут интерпретироваться, как слова о тусклости жизни. Как тут не пойти дальше и не заметить, что свет жизни, под которым мы должны иметь в виду интерес к ней, исчезает в обратном порядке.
Возвращаясь к теме внутреннего света, обратимся к Мемуарам Шребера и заметим, что за вторым солнцем он увидел некую фигуру, “как бы сидящую за солнцем” (ранее, – душа Флексига, а потом душа У.), в обязанность которой входило “руководство солнцем”. Слова Шребера, о том, что “солнце говорило со мной на людях в течение многих лет, раскрывая себя как оживленное существо или орган высшего существа”, волей или неволей, но подтверждают, что за солнцем стояли не только его мать, но и отец. “Поэтому нити, выступающие в качестве носителей голосов, только частично, исходят от солнца, обычно происходят не из того направления, где солнце действительно стоит, а с более или менее противоположного направления”.
И в этом контексте его слова “солнце следит за моими движениями”, приобретает дополнительный смысл, который мы вправе перенести на слова: “Солнце – ты проститутка (потаскуха, шлюха)” и увидеть в них недовольство плода.
Во время регрессии в фетальное состояние Шребер не мог не заметить изменений своего внутреннего мира. Это вытекает из его слов, что “с солнцем произошли некоторые важные изменения”. А поскольку регрессия – это движение, то нет ничего удивительного в том, что, как писал Шребер: “Через несколько дней чудесные явления, о которых я упоминал выше, закончились; солнце приняло форму, которую оно с тех пор и сохранило”.
Обратное исследование взаимоотношений между семьями Флексигов и Шреберов, которое в Мемуарах проводил Шребер, “продвижение при этом по времени далеко назад, к прежним векам”, интересно нам только с той точки зрения, что, находясь в измененном сознании, Шребер указывает нам направление куда должно быть направлено наше внимание. В истории Шребера этот путь уходит в далекое личное прошлое его жизни и не только в глубокое детство, но и в более глубокое прошлое, каким без сомнений является период его внутриутробной жизни.
Фрейд писал: “Когда причины определённых ощущений и чувств мы пытаемся отыскать не в нас самих, а приписываем их внешнему миру, тогда такой нормальный процесс заслуживает названия проекции”[63]. В таком случае особым образом для нашего внимания встает вопрос о моментах, когда причины определённых внутренних ощущений и чувств Шребером ищутся не в его личном прошлом, а приписываются проекциям на проявления внешнего мира.
Новая личность, появившаяся как следствие регрессии либидо и поиска им новых путей, привела Шребера к появлению нового взгляда на свою роль в спасении человечества путем возврата ему “божественного блаженства”.
Необходимо заметить, что те симптомы заболевания, которые имелись у Шребера, показывают нам насколько болезненным является процесс регрессии либидо. Дезориентация, которую демонстрировал Шребер, указывает на то, что его либидо мучительно пыталось “ухватиться” за фиксации в поисках нового объекта.
Это, в частности следует из утверждений Вебера, который писал в своем втором отчете: “То, что на более ранних стадиях болезни пациент был полностью недееспособен для действий и не мог следить за своими делами или даже обращать на них внимание, очевидно из наблюдений. Долгое время пациент был настолько поглощен патологическими процессами своей психической жизни, что его концепция вещей была исключительно обусловленагаллюцинаторными переживаниями, он был настолько полностью дезориентирован по отношению к времени, людей и мест вместо реальности его разум был настолько отвлечен всеми естественными явлениями, его воля либо была настолько подавлена, либо была связана или была направлена против защиты болезненных страданий, его действия, наконец, были настолько абсурдными и сомнительными, как и в отношении сохранения собственной личности, как в отношениях к внешнему миру, что не может быть и речи о свободном самоопределении и рациональном обдумывании, но что пациент полностью находился под принуждением к подавленным болезненным влияниям”.
На примере Шребера мы исходим из того, что любые бредовые утверждения человека основаны на прежних реальных переживаниях, ранее складированных, где-то в глубинах психического аппарата и вынимаемых оттуда во время заболевания в форме воспоминаний. Эти воспоминания подвергаются психической обработке и являются закодированными, упакованными так, чтобы никогда уже не смогли выйти наружу. Однако по каким-то причинам эти воспоминания поднимаются из глубин бессознательного и выходят на поверхность сознания, определяя мысли и действия человека.
Но хотелось бы остановиться не только на этом моменте регрессии Шребера. Как следует из утверждений эмбриологов у плода возникают вкусовые и нюхательные реакции. Учитывая, что плод находится не в дистиллированной воде, а в околоплодных водах, содержащих меконием, мочу, первородную смазку и другие вещества, образующимися в результате его жизнедеятельности, они имеют особый запах, который плод запоминает. Этот запах принадлежит ему, его матери и его миру, а по этой причине, как говорил Ференци Ш. “будит тоску по материнской утробе”[64]. В совокупности это указывает нам на вектор устремления либидо от взрослого состояния в детство и далее в полость матки.
Как известно в психиатрической больнице широкое распространение получили психотропные препараты и наркотические вещества. Под воздействием какой именно группы препаратов находился Шребер, мы уже не узнаем, но своим утверждением, что “он (Флексиг) сумел своей душой или ее частью вознестись на небо и тем самым сделать себя, не умерев и не пройдя вышеупомянутого очищения, “командующим лучами””, Шребер дает нам право сделать предположение, что в момент освобождения его (выхода из состояния) сознания от воздействия психотропного препарата, как это обычно бывает в момент выхода из сна, Шребер действительно мог услышать разговор Флексига с медицинским персоналом, в котором речь шла о его психическом состоянии, и в котором Флексиг по праву был начальником и задавал тон, но придал этому факту иное значение.
Вспомним, что, повторно обращаясь к проф. Флексигу, Шребер исходил из опыта уже состоявшегося у него лечения. Результатами лечения ипохондрии Шребер с известными оговорками был доволен, но еще более довольной была его жена. Они надеялись, что и в данном случае Флексиг справится с поставленной задачей и решит новую проблему Шребера. Но все пошло не так.
Применив все имеющиеся у него красноречие, или, как сказал сам Шребер: “Флексиг оставался первым соблазнителем, под чьё влияние Господь попал. Ему удалось проникнуть на небо всею своей душой или же её частью, став “вождём лучей”, не умирая и не проходя какого-либо предварительного очищения”.
Убедив Шребера лечь в больницу, Флексиг не оправдал ожиданий Шребера. Не в силах отказаться от “могущества” прежнего Флексига, поскольку он от него продолжал зависеть и надеяться на него, Шребер расколол в своем сознании образ Флексига. Вследствие чего появилось “не менее сорока-шестидесяти отделений души Флексига; два крупнейших отдела назывались “верхний Флексиг” и “средний Флексиг”.
Один – когда-то мог умело справляться с психическими нарушениями, но он умер, “застрелившись” в “Вайссенбурге в Эльзасе или в полицейской камере в Лейпциге”. Шребер сам видел, “как мимо прошла его похоронная процессия, хотя она двигалась и не в том направлении, которое следовало ожидать из-за взаимоположения университетской клиники и кладбища”. Другой – вообще ничего не делал, как считал Шребер, поскольку “договорился с Богом” и сам стал “Богом-Флексигом”. Об Этом Шребер узнал из разговора Флексига со своей женой, который подслушал методом “связи с помощью нервов”.
“Отпустить” Флексига (примириться с ним) Шребер смог только тогда, когда пациента перевели из лейпцигской клиники в лечебницу доктора Пирсона (в Линденхофе), а затем в клинику Зонненштайн, где у него появился новый врач Вебер. Примирение это состоялось методом поворота Шребера от Флексига, в результате чего Флексиг стал “задним” или “Партией “Увы!””.
То, что похоронная процессия шла не в ту сторону, указывает нам, на то, что Шребер считал свою курацию неверной. Результатом такого лечения должна была стать смерть самого Шребера, а поэтому он просил отдать ему яд, заказать гроб, известить специальные службы о больном чумой.
Наличие полицейского участка, “где произошла трагедия с Флексигом”, указывает нам, что Шребер, являясь доктором юстиции и “президентом Шребером, о чем он извещал мир через открытое окно”, понимал, что действия Флексига по его удержанию в стационаре являются неправомерными, что и смог доказать в судебном процессе.
Достаточно большое время, прошедшее с момента переживаний фетальных сцен и их подтверждения детскими переживаниями, приводит нас к необходимости признать тот факт, что толчком к их оживлению является внезапно открывшийся доступ к точкам фиксации, где на протяжении всего этого времени «копошились подобно существам» бессознательные (фетальные) воспоминания о первичной сцене совокупления родителей.
А одновременное функционирование психического аппарата Шребера из фетальной и из реальной систем, указывают нам, что оживление фетальных воспоминаний возникло как следствие недостаточности всех последующих фиксаций.
В качестве дополнительных доводов, подтверждающих фетальность этих воспоминаний, воспользуемся доводами З. Фрейда, которыми он обосновывал возможность детских воспоминаний, но которые мы сдвинули в область фетального периода, и который писал: «Допустим, что никто не возражает против того, что подобная «первичная сцена» технически сконструирована правильно, что она необходима для обобщающего разрешения всех загадок, которые у нас возникают благодаря симптоматике детского заболевания, что из этой сцены исходят все влияния, подобно тому, как к ней привели все нити анализа – тогда, если принять во внимание ее содержание, она не может оказаться чем-нибудь иным, как репродукцией пережитой ребенком реальности. Потому что ребенок может, как и взрослый, продуцировать фантазии только при помощи каким-либо образом приобретенного материала; пути такого приобретения для ребенка частично (как, например, чтение) недоступны, время, которым он располагает для такого приобретения, коротко и его легко изучить для открытия таких источников приобретения. В нашем случае «первичная сцена» содержит картину полового общения между родителями в положении, особенно благоприятном для некоторых наблюдений. Если бы мы открыли эту сцену у больного, симптомы которого, т. е. влияние сцены, проявились когда-нибудь в более позднем периоде жизни, то это вовсе не доказывало бы еще реальности этой сцены. Такой больной может в самые различные моменты длинного интервала приобрести те впечатления, представления и знания, которые он впоследствии превращает в фантастическую картину, проецирует ее в детство и связывает с родителями. Но если действия такой сцены проявляются на четвертом и пятом году жизни, то ребенок должен был видеть эту сцену еще в более раннем возрасте. Но тогда сохраняют свою силу все те выводы, к которым мы пришли посредством анализа инфантильного невроза. Разве только кто-нибудь стал бы утверждать, что пациент бессознательно вообразил себе не только эту «первичную сцену», но сочинил также и изменение своего характера, свой страх перед волком и свою религиозную навязчивость – но такое мнение прямо противоречило бы его обычному трезвому складу и прямой традиции его семьи. Итак, приходится остаться при том – другой возможности я не вижу, – что анализ, исходящий из его детского невроза, представляет собой бессмысленную шутку или же что все обстояло именно так, как я изложил это выше» [65].
Мы поддерживаем Фрейда в теме значимости для ребенка сексуальных отношений его родителей, но учитывая, что невротический синдромокомплекс у малыша не может развиться в результате однократного наблюдения полового акта родителей (для этого должна быть череда таких наблюдений; тем более, что ребенок мог принять отношения родителей за игру (но не принял), хотя сам с удовольствием играет и игра у него находится на уровне осознания своих действий, т.е. актуальна), мы относим период зарождений невротических симптомов в фетальный период.
Для того, чтобы у ребенка развился страх, необходимо, чтобы его жизни что-то угрожало. Травматичность и значимость этого процесса только тогда занимает свое место в психике ребенка, когда для этого существуют соответствующие воспоминания.
В “игре” родителей нет непосредственной угрозы жизни ребенка, а, значит их копуляция для него эмоционально ничего не значит. Вряд ли ребенок может эмоционально отличить копулятивный акт своих родителей от совместного приема ими пищи, к примеру, или какого-либо иного время препровождения.
Все эти условия с лихвой соблюдены в тот период, пока он находится в матке, в закрытом и тесном пространстве. Моделью фетальных переживаний плода может служить страх, который переживают люди в закрытых помещениях. И чем меньше это пространство, тем ужаснее его переживания.
Мы не настаиваем на том, что все представленные нами интерпретации бредовых утверждений Шребера, являются истинными, поскольку это не наш бред и не наши переживания.
Мы будем рады каждому новому взгляду на природу бреда. Особенно они будут ценны, если будут изложены от первого лица, побывавшего в этом состоянии.
© Бажин Ю.А. 2020г.
[1] Посвянский П.Б. Циркулярный психоз с периодической эффеминацией (транссексуализмом). / Проблемы современной сексопатологии (сборник трудов). М. 1972. Т. 65. Стр.383 – 408.
[2] З Фрейд. Введение в психоанализ. Пятая лекция.
[3] Лейбин В. “Я и Эдипов комплекс”/ Архетип. “Гуманитарий” Академии гуманитарных исследований. 1/1996. Стр.136-142.
[4] Абрахам К. Сновидение и миф. Исследование психологии народов (1909b). / В кн. Психоаналитические труды: в 3 т. (т. 1) / Карл Абрахам. – пер. с нем. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, И.Н. Чирковой. – Ижевск: ERGO, 2009.
[5] Абрахам К. Об истерических сновидных состояниях (1910а). / В кн. Психоаналитические труды: в 3 т. (т. 1) / Карл Абрахам. – пер. с нем. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, И.Н. Чирковой. – Ижевск: ERGO, 2009.
[6] Абрахам К. Об истерических сновидных состояниях (1910а). / В кн. Психоаналитические труды: в 3 т. (т. 1) / Карл Абрахам. – пер. с нем. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, И.Н. Чирковой. – Ижевск: ERGO, 2009.
[7] Бажин Ю.А. Травмы и удовольствия фетального периода. URL: https://psy.media/travmy-i-udovolstvia-fetalnogo-perioda/
[8] Бажин Ю.А. Травмы и удовольствия фетального периода. URL: https://psy.media/travmy-i-udovolstvia-fetalnogo-perioda/
[9] З Фрейд. Введение в психоанализ. Одиннадцатая лекция.
[10] Фрейд З. “Художник и фантазирование”.
[11] Шпильрейн, С. Вклад в познание детской души (1912b). В кн. Психоаналитические труды. / Сабина Шпильрейн. – пер. с англ., нем., фр. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, Е.С. Морозовой. – Ижевск: ERGO, 2008. – XII+466с.
[12] “О нарцизме”.
[13] Баймайер Ф. Случай Шребера. URL: ://фройд.рф/freud/schreber/baymeyer.htm. Перевод В. Николаева.
[14] Маргерит А. Сешей. Дневник шизофренички. Самонаблюдение больной шизофренией во время психотерапевтического лечения / Пер. с фр. – М.: Когито-Центр, 2017. – 203с. (Библиотека психоанализа).
[15] Посвянский П.Б. Циркулярный психоз с периодической эффеминацией (транссексуализмом). / Проблемы современной сексопатологии (сборник трудов). М. 1972. Т. 65. Стр.383 – 408.
[16] Как следует и работы, “по понятным соображениям изменены некоторые данные, не имеющие отношения к существу заболевания”.
[17] Фрейд З. Толкование сновидений.
[18] Фрейд З. Из истории одного детского невроза. Человек-Волк и Зигмунд Фрейд. Сб. / Пер. с англ. – К.: “Port-Royl”, 1996. – 352 c.
[19] Ранк О. Травма рождения и ее значение для психоанализа/Пер. с нем.-М.: “Когито-Центр”, 2009. – 239 с. (Библиотека психоанализа).
[20] Гроф С. За пределами мозга. Пер. с англ. – М.: “Соцветие”, 1992. 336 с., илл.
[21] Фрейд З. Из истории одного детского невроза. Человек-Волк и Зигмунд Фрейд. Сб. / Пер. с англ. – К.: “Port-Royl”, 1996. – 352 c.
[22] Лэнг Р.Д. Расколотое “Я”: пер. с англ. – СПб.: Белый Кролик. 1995. – 352 с.
[23] Смирнов В. Фантазии глубокого проникновения. Ритмическая поэзия как литературная форма коитуса. В кн. Russian Imago 2000. Исследования по психоанализу культуры. – СПб.: “Алетейя”, 2001. – 480с.
[24] Лэнг Р.Д. Расколотое “Я”: пер. с англ. – СПб.: Белый Кролик. 1995. – 352 с.
[25] Лэнг Р.Д. Расколотое “Я”: пер. с англ. – СПб.: Белый Кролик. 1995. – 352 с.
[26] Ференци Ш. Теория и практика психоанализа: пер. с нем. – М.: ПЕР СЭ, СПб.: Университетская книга. – 320 с.
[27] Шпильрейн, С. Вклад в дискуссию по выступлению В. Тауска “Сексуальность и “Я” (1975i [1912]. В кн. Психоаналитические труды. / Сабина Шпильрейн. – пер. с англ., нем., фр. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, Е.С. Морозовой. – Ижевск: ERGO, 2008. – XII+466с.
[28] Александр Васильевич, пациент П.Б. Посвянского также обнаружил у себя на желании стать женщиной, после длительного сексуального воздержания.
[29] Лэнг Р.Д. Расколотое “Я”: пер. с англ. – СПб.: Белый Кролик. 1995. – 352 с.
[30] Радо Ш. Психические эффекты интоксикантов. Психоаналитические концепции наркотической зависимости. Тексты / Сост. и науч. ред. перев. С.Ф. Сироткин. Ижевск: Издательский дом “Удмурдский университет”, 2004. 474 с.
[31] Шпильрейн, С. Вклад в познание детской души (1912b). В кн. Психоаналитические труды. / Сабина Шпильрейн. – пер. с англ., нем., фр. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, Е.С. Морозовой. – Ижевск: ERGO, 2008. – XII+466с.
[32] Шпильрейн, С. Вклад в познание детской души (1912b). В кн. Психоаналитические труды. / Сабина Шпильрейн. – пер. с англ., нем., фр. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, Е.С. Морозовой. – Ижевск: ERGO, 2008. – XII+466с.
[33] Нидерланд У. Мир детства Шребера. URL: ://фройд.рф/freud/schreber/niederla.htm.
[34] Фрейд З. Психоаналитические заметки об одном автобиографически описанном случае паранойи (dementia paranoides) с. 133 – 203 в кн. Навязчивость, паранойя и перверсия. / Пер. с нем. Боковикова А.М. – М.: ООО “Фирма СТД”, 2006. – 335 с.
[35] Калшед Д. Внутренний мир травмы: архетипические защиты личностного духа: пер. с англ. – М.: Академический проект, 2007. – 368 с. – (Психологические технологии).
[36] Девятнадцатая лекция.
[37] Фрейд З. Из истории одного детского невроза. Человек-Волк и Зигмунд Фрейд. Сб. / Пер. с англ. – К.: “Port-Royl”, 1996. – 352 c.
[38] К чему привела попытка медведя проникнуть в теремок, мы хорошо знаем
[39] Шпильрейн, С. Дебаты об онанизме. Реферат (1975i [1912]. В кн. Психоаналитические труды. / Сабина Шпильрейн. – пер. с англ., нем., фр. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, Е.С. Морозовой. – Ижевск: ERGO, 2008. – XII+466с.
[40] Шпильрейн, С. Вклад в дискуссию по выступлению В. Тауска “Сексуальность и “Я” (1975i [1912]. В кн. Психоаналитические труды. / Сабина Шпильрейн. – пер. с англ., нем., фр. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, Е.С. Морозовой. – Ижевск: ERGO, 2008. – XII+466с.
[41] Маргерит А. Сешей . Дневник шизофренички. Самонаблюдение больной шизофренией во время психотерапевтического лечения / Пер. с фр. – М.: Когито-Центр, 2017. – 203с. (Библиотека психоанализа).
[42] Шпильрейн, С. Вклад в познание детской души (1912b). В кн. Психоаналитические труды. / Сабина Шпильрейн. – пер. с англ., нем., фр. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, Е.С. Морозовой. – Ижевск: ERGO, 2008. – XII+466с.
[43] Ранее нечто подобное, возможно, было описано в третьей (удаленной) главе Мемуаров, а вначале всего этого стояли трудности фетального периода.
[44] The “Miracled-up” World of Schreiber’s Childhood // The Psychoanalytic Study of the Child. – 1959.
[45] Страх темноты у детей, по нашему мнению, берет свое начало из этих же переживаний.
[46] Ранк О. Травма рождения и ее значение для психоанализа/Пер. с нем.-М.: “Когито-Центр”, 2009. – 239 с. (Библиотека психоанализа).
[47] Ференци Ш. Опыт генитальной теории / Ижевск: ERGO, – 120 с.
[48] Ранк О. Травма рождения и ее значение для психоанализа/Пер. с нем.-М.:” Когито-Центр”, 2009. – 239 с. (Библиотека психоанализа).
[49] Ранк О. Травма рождения и ее значение для психоанализа/Пер. с нем.-М.: “Когито-Центр”, 2009. – 239 с. (Библиотека психоанализа).
[50] Я обнаружил, что в сновидениях конечной стадии аналитического курса фаллос чаще всего выступает как “символ” пуповины.
[51] Ранк О. Травма рождения и ее значение для психоанализа/Пер. с нем.-М.: “Когито-Центр”, 2009. – 239 с. (Библиотека психоанализа).
[52] Интранатальный – дородовый период. Постнатальный – послеродовый (7 дней).
[53] Ранк О. Травма рождения и ее значение для психоанализа/Пер. с нем.-М.: “Когито-Центр”, 2009. – 239 с. (Библиотека психоанализа).
[54] Фрейд З. Толкование сновидений.
[55] Лэнг Р.Д. Расколотое “Я”: пер. с англ. – СПб.: Белый Кролик. 1995. – 352 с.
[56] Фрейд З. Неудобства культуры / Сборник Художник и фантазирование: Пер. с нем. / Под ред. Р.Ф. Додельцева, К.М. Долгова. – М.: Республика, 1995. – 400 с.: ил. – (Прошлое и настоящее).
[57] Шилдер П., Вечслер Д. Что дети знают о том, что находится внутри тела. Сборник Психология и психопатология кожи: тексты/ Сост. и научн. Ред. С.Ф. Сироткин, М.Л. Мельникова. – Ижевск: ERGO; М.: Когито-Центр, 2011. М-384 с.
[58] Шилдер П., Вечслер Д. Что дети знают о том, что находится внутри тела. Сборник Психология и психопатология кожи: тексты/ Сост. и научн. Ред. С.Ф. Сироткин, М.Л. Мельникова. – Ижевск: ERGO; М.: Когито-Центр, 2011. М-384 с.
[59] Шпильрейн С. Сновидение и видение о падающих звездах (1923b). В кн. Психоаналитические труды. / Сабина Шпильрейн. – пер. с англ., нем., фр. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, Е.С. Морозовой. – Ижевск: ERGO, 2008. – XII+466с.
[60] Шпильрейн, С. Дебаты об онанизме. Реферат (1975i [1912]. В кн. Психоаналитические труды. / Сабина Шпильрейн. – пер. с англ., нем., фр. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, Е.С. Морозовой. – Ижевск: ERGO, 2008. – XII+466с.
[61] Мы бы сказали – эротического компонента.
[62] Шпильрейн, С. Дебаты об онанизме. Реферат (1975i [1912]. В кн. Психоаналитические труды. / Сабина Шпильрейн. – пер. с англ., нем., фр. под научн. ред. С.Ф. Сироткина, Е.С. Морозовой. – Ижевск: ERGO, 2008. – XII+466с.
[63] URL: ://фройд.рф/freud/schreber/schreber.htm
[64] Ференци Ш. Опыт генитальной теории / Ижевск: ERGO, – 120 с.
[65] Фрейд З. Из истории одного детского невроза. Человек-Волк и Зигмунд Фрейд. Сб. / Пер. с англ. – К.: “Port-Royl”, 1996. – 352 c.